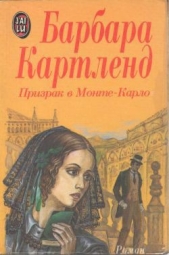Война конца света

Война конца света читать книгу онлайн
Роман известного перуанского прозаика посвящен крестьянскому восстанию в XIX в. на Северо-Востоке Бразилии, которое возглавлял Антонио Масиэл, известный в истории как Консельейро, Наставник. Незаурядная, яркая личность, блестящий оратор, он создает свободную общину с коллективной собственностью и совместной обработкой земли, через два года безжалостно разгромленную правительством. Талантливое произведение Льосы отличает мощный эпический размах, психологическая и социальная многоплановость; образ народного восстания вырастает в масштабную концепцию истории, связанную с опытом революционных движений в современной Латинской Америке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Карлик, отпустив несколько шуток, которые никого не рассмешили, продолжил историю рыцаря Оливье. Репортер угадал, что рука Журемы тянется к нему, мгновенно стиснул в кулаке и поднес ко рту нечто, оказавшееся сухарем, торопливо и жадно заработал челюстями, полностью поглощенный этим занятием– глотал он с трудом, но и с ликованием. «Если выживу, – подумал он, – я возненавижу даже цветок, название которого стало ее именем». Журема знала, до каких пределов доходила его трусость, знала, до чего она могла его довести. Счастливый, испуганный, он медленно перетирал зубами сухарные крошки, вспоминая первую ночь в Канудосе: когда, измученный и полуслепой, со стертыми в кровь ногами, поминутно спотыкаясь и падая, он глохнул от несмолкаемых криков в честь Наставника. Ему казалось тогда, что накатывающая на него могучая, рассыпающая искры, пахнущая маслом и ладаном волна незнакомых голосов, распевавших литании, вот-вот поднимет его и унесет. И вдруг она отхлынула; все стихло и замерло. «Это он, это появился Наставник», – подумал он, и с такой силой стиснул ладонь Журемы-весь день он цеплялся за нее, – что женщина прошептала: «Отпусти, больно». Потом, когда хрипловатый голос смолк и толпа стала расходиться, они втроем опять оказались на этом пустыре. Падре Жоакин исчез еще при входе в Канудос, какие-то люди увлекли его за собой, и репортер во время проповеди слышал, как Наставник воссылал хвалу господу за то, что священник, целый и невредимый, опять вернулся к своей пастве. Он подумал, что падре Жоакин, наверно, стоит рядом со святым-на помосте, на лесах или на колокольне. Значит, прав был полковник Морейра Сезар: падре Жоакин был и остается одним из мятежников, их единомышленником и пособником. Вот тогда репортер заплакал, как не плакал, наверно, и в детстве. Сотрясаясь от рыданий, он умолял женщину вывести его из Канудоса, обещал ей и одежду, и дом, и все что угодно, только бы она не бросила его, полуслепого, полумертвого от голода. Да, одна лишь Журема знает, до чего может довести его страх, в какое трясущееся, вымаливающее сострадание ничтожество превратить.
Карлик окончил свой рассказ. Раздались жидкие рукоплескания, слушатели стали расходиться. Репортер напряженно смотрел перед собой, пытаясь определить, дали им что-нибудь или нет, и унылое предчувствие говорило ему, что жестяная миска на коленях у Журемы по-прежнему пуста.
– Ничего? – спросил он, догадавшись, что они опять остались втроем.
– Ничего, – со всегдашним безразличием ответила, поднимаясь, Журема.
Репортер тоже встал и двинулся следом за Журемой: он помнил, что она худенькая, оборванная, с распущенными волосами. Карлик шел рядом: у самого своего локтя он чувствовал его голову.
– Они еще бедней, чем мы, – услышал он его бормотание. – Журема, помнишь Сипо? Здешний народ еще несчастней. В жизни своей не видывал столько слепых, безруких, безногих, припадочных: у того носа нет, у того-ушей, и все в лишаях, в коросте, в язвах, в рубцах. Тебе-то, Журема, до этого дела нет. А мне есть. Тут я чувствую себя таким, как все, – не лучше, не хуже.
Он рассмеялся, потом принялся что-то весело насвистывать.
– А сегодня нам дадут маисовой каши? – с внезапным беспокойством спросил репортер. – Если правда, что падре Жоакин уезжает, помощи нам ждать неоткуда. Что же это он нас бросил? – уже позабыв о каше, продолжал он обиженно.
– А почему бы ему нас не бросить? – ответил Карлик. – На что мы ему сдались? Кто мы ему? Друзья? Знакомые? Скажи спасибо, что устроил нас ночевать.
Да, падре Жоакин помог им, дал крышу над головой. Кто же, кроме него, мог замолвить за них словечко, кому обязаны они были тем, что репортер, чувствуя, как после ночевки под открытым небом нестерпимо ноют кости и мышцы, услышал властный и звучный голос, вполне подходящий широкоплечей плотной фигуре бородача:
– Можете ночевать в арсенале. Только из Бело-Монте– ни шагу!
Их считают пленными? Ни он, ни Карлик, ни Журема ни о чем не осмелились спросить этого человека, обладавшего властью: недаром же он несколькими словами обеспечил им приют и пропитание. Он проводил их в какое-то обширное, как показалось репортеру, полутемное, сплошь заставленное чем-то, теплое помещение и, не спросив даже, кто они и зачем пожаловали в Канудос, ушел, повторив на прощанье, что из города им выйти нельзя и чтоб поосторожней были с оружием. Журема и Карлик объяснили репортеру, что их со всех сторон окружают винтовки, порох, динамитные шашки-трофеи, отбитые у 7-го полка. Какая нелепость – они живут теперь в арсенале, битком набитом орудиями уничтожения! Нелепость? Отчего же? Жизнь его больше не подчиняется законам логики, и отныне ничего нелепого в ней быть не может. Надо или принимать ее такой, как есть, или покончить с собой.
С того дня, когда репортер, стиснутый каменно неподвижной толпой, над которой висело почти физически ощутимое безмолвие, впервые услыхал громкий, глубокий, непостижимо отчужденный голос Наставника, ему стало казаться, что в Канудосе событиями, людьми, ходом времени, смертью управляет не разум, а нечто иное-то, что было бы несправедливо назвать безумием и слишком неточно-верой или суеверием. Еще не успев вникнуть в смысл слов, еще не захваченный торжественным тоном Наставника, репортер был поражен, ошеломлен, сбит с толку тем, как тихо и неподвижно стояла громадная толпа. Это напоминало… Он упрямо напрягал память, потому что был уверен: как только вспомнит-тотчас сумеет раскрыть эту тайну, облечь смутное чувство в слова. Кандомблэ! На кривых улочках за вокзалом Калсада, на убогих фермах в пригороде Салвадора, наблюдая за радением, слушая кантиги [27] на древних африканских языках, он видел, как волшба освобождает человека от здравого смысла, логики, разума, противоестественно сплавляя воедино людей, предметы, время, пространство; и в эту ночь, стремительно наступившую, размывшую очертания фигур на площади, репортер почувствовал, что жители Канудоса, которым хрипловатый, отрывистый голос придавал сил и уверенности, отвергают все телесное, плотское, материальное, перестают заботиться об имуществе, об одежде, о пропитании, горделиво устремляя свои помыслы на жизнь духа – на веру, на убеждение, на поиски истины и стремление к добродетели. Покуда звучал этот завораживающий голос, репортеру казалось, что он знает разгадку и понял наконец, почему Канудос возник, почему выстоял этот призрачный город, но, как только Наставник замолчал, люди вдруг стали прежними, а его вновь охватили тревога и неуверенность.
– Вот вам немножко фариньи и молоко, – произнес женский голос, принадлежавший жене Антонио Вилановы или ее сестре: голоса у них были очень похожи. Репортер вмиг перестал размышлять об отвлеченностях: жадно и бережно подхватывал он кончиками пальцев крупинки маиса, отправлял их в рот, прижимал языком к нёбу и всякий раз, когда козье молоко глоток за глотком текло по пищеводу в желудок, чувствовал подлинное блаженство.
Съев свою долю, Карлик отрыгнул и весело рассмеялся. «Поел-весел, голодный-печален», – подумал репортер. А чем он лучше: он тоже теперь чувствует себя счастливым или несчастным в зависимости от того, полон или пуст его желудок. Эта примитивная истина царит в Канудосе, но можно ли назвать его жителей материалистами? Нет, нельзя. Еще одна мысль не давала ему покоя все эти дни: возникшая здесь общность неведомыми путями, тычась в потемках и часто оказываясь в тупиках, пришла к освобождению от скаредных забот о хлебе насущном, от повседневной мелочной суеты, от требований плоти-от всего, что там, откуда он явился, остается главным. Неужели в этом угрюмом раю духовности и нищеты он найдет себе могилу? В первые дни он еще мечтал, как сговорится с падре Жоакином, как они наймут проводников, достанут лошадь и вернутся в Салвадор. Но священник из Кумбе больше не появлялся, а теперь прошел слух, что он уезжает: по утрам не служил мессу, по вечерам не читал проповедь с лесов храма. Подойти к нему, пробившись сквозь окружавшее Наставника и его свиту плотное кольцо вооруженных мужчин и женщин с голубыми тряпицами, было невозможно, и никто не мог сказать наверное, вернется ли он. Ну, а сумел бы он поговорить с ним-что изменилось бы? Да и что бы он ему сказал? «Падре Жоакин, мне страшно оставаться в логове мятежников, помогите мне выбраться отсюда, проведите меня туда, где есть солдаты и полицейские, там я буду в безопасности»? А священник бы ему ответил: «Вы-то, господин журналист, будете в безопасности, а я? Не забывайте, что я чудом спасся от смерти, от полковника Живореза. И вы хотите, чтобы я пошел туда, где есть солдаты и полицейские?» Вообразив этот разговор, репортер расхохотался: он как бы со стороны слышал свой истерический лающий смех и боялся оскорбить людей, которых едва различал, но ничего не мог с собой поделать. Карлик тоже залился смехом, и репортер представил себе, как сотрясается от хохота щуплое и несуразное тельце. Журема не смеялась, и это рассердило его.