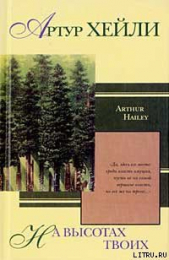О чудесном (сборник)

О чудесном (сборник) читать книгу онлайн
Безупречные по стилю рассказы Ю.Мамлеева населены странными существами, лишь отдаленно напоминающими реально существующих людей. Хотя, если присмотреться повнимательнее, — не они ли живут рядом с нами, свидетельствуя о конце цивилизации, влекущем за собой совершенно иные, не всем понятные времена?
Эта книга — настоящий подарок для истинных ценителей современной интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Голова спряталась в гроб, и на минуту обозначилась рука, белая, бесцеремонная, детская (словно Крэк превратился в ребенка), и махнула собой в никуда примиренно и загадочно. Но кто же он, Крэк, на самом деле — тот, который лежит в гробу и махает рукой в неизвестность, или тот, кому это все снится и который тоже умирает? Он сам не знал этого. Однако пророческий сон с крепким гробом, голодными собаками и неизвестным господином внезапно кончился, погас и свет в конце туннеля. Крэк — уже не человеческим умом, а каким-то другим, вдруг на мгновения появившимся, — понял, что возврата нет, что он уже не умирает, он умер…
Чарли продолжал сидеть на табурете около трупа Крэка, равнодушно помахивая тремя голыми руками.
Семга
Я всегда думал, что единственное существо, которое выше меня, — это крыса.
Но, к сожалению, я их никогда не видел — даже их синих черно-бездонных глаз, погруженных в протосмерть. Я их видел только во сне, и то в Нью-Йорке, хотя в Нью-Йорке много-много, даже слишком много видимых крыс.
Я живу в конуре, на шестнадцатом этаже в здании, которое через тридцать пять лет провалится. Но мне почти весело от этого.
Люблю крысиные глаза, уходящие вовнутрь. Я вообще люблю глаза, которые уходят вовнутрь. Прежде всего, потому что у людей, которых я вижу вокруг, глаза смотрят всегда вовне, как будто внутри у них ничего нет. Я разъезжал по всему свету и убедился, что это так. А я ведь — любитель необычайного. Хотя бы потому, что моя мать наполовину индианка. Но эти рыбы — необычные люди — так редко попадались! Одни бесконечно жующие морды, то разъезжающие на автомобилях, то спрашивающие: «How are you?» Некоторые из них считали себя спиритуальными, потому что часто употребляли такие слова, как «Бог» и т.
И все-таки недавно я увидел необычайное. Это был человек-семга. Я уже давно забросил свою контору, ибо скука — царица этого общества — стала убивать меня окончательно. Впрочем, некоторые называли эту контору «реальностью». Гомосексуализм, порнография и т. д. были даже еще скучнее, чем обычное и респектабельное существование типа «хау а ю». Еще некоторое время меня развлекали педофилы — я вошел в их пуританское сообщество (в качестве наблюдателя), — но дети оказались такими же скучными, как и взрослые.
Бессмысленность доконала меня. И вот тогда я и бросил работу (два моих знакомых, один из штата Техас, другой — с Бостона, покончили с собой, когда их выгнали с работы). Но я плевал на все, в том числе и на трупы моих знакомых.
Я решил уйти в трущобы. К обездоленным. С ними было не так скучно, зато страшно: ибо не раз за все мое подпольное существование они хотели зарезать меня. Но не зарезали от избытка чувств. И все-таки ничего в них не было необычайного. Ну, люди как люди, с другим меню.
В действительности необычным был он: человек-семга.
Стоял серый, пустой нью-йоркский день. Я тогда выполз из такой трущобы — прямо из окна, которая напоминала труп, выставленный напоказ. Тараканы, другие мелкие твари, смердуны копошились в моем носу, горле, уме… Но я все-таки вышел! В моих карманах было тридцать долларов — целое состояние, которое я вынул из брюк наркомана, уснувшего в углу.
Почти бегом, мимо грохочущих автомашин, воя обездоленных, мимо реклам общества «новорожденных в Боге», мимо патологических проституток и глаз ожиревших бизнесменов, видимых сквозь стену небоскребов, я уходил туда, туда… в дешевую грязную пивную, около Сорок второй улицы, улицы кошмаров.
Вот, вот она, милая. Я знал там одного бармена: трижды — правда, за целый год — он подмигнул мне.
И я вошел в этот райский мир. В углу зеленел телевизор, в котором кого-то насиловали. По другой программе выступали те, кто считал, что они живут в золотом веке.
Я сел за столик. Бармен — уже четвертый раз за год — подмигнул мне. Я заказал себе пива и рюмку водки. На голодный желудок от этого можно сойти с ума. Я нарочно потому не ел ничего — даже своих крыс (ментально).
И вдруг появился этот человек. Толстый, красноватый, в руке у него был томик Шекспира. Это меня поразило больше всего.
Но истинная необычность его была в нежности. Только нежность эта внешняя. Души, как обычно, не наблюдалось, но внешняя нежность была. Он весь раздулся от этого, кожа лица, рук была у него красновато-тонкая, странная, одним словом, семга, воплощенная в человека.
Я запел. Я люблю, когда семги воплощаются в человеков. Раньше, бывало, боги (например, античных времен) принимали вид людей, а теперь даже семги воплощаются в нас. Это ли не чудеса? Богам, конечно, легко воплощаться в людей, а вот семге — это и есть подлинное чудо!
Глаза, какие у него были глаза! Синие, розовые, водно-небесные, разорванно-голубые, свирельные. Я тут же встал, как все равно военный, отдал ему честь и упал перед ним на колени.
«Свершилось! — подумал я. — Тысячелетиями ждали этого! Что там боги! А вот возьми, и чтоб семга — да в человека. Это тебе не поиски истины сквозь туман. А тут все чисто: семга — и вот на тебе, человек».
«Он» (я о нем иначе как с заглавной буквы и не могу выражаться) издал свое великое: «Пуф-пуф!»
Как я потом понял, это был единственный звук, который он был способен (более или менее внятно) произносить.
В остальном — молчание, вернее, антимолчание.
Я почти заплакал, ибо не понял выражения его рыбьих глаз. Одним вздохом меня вынесло в сторону, к клозету.
Там было обычное: я видел сквозь щель, как огромный цветистый мужчина использовал в задницу молодого человека, а тот блевал в белоснежный толчок и рассматривал там — мне так интуитивно показалось — свое собственное вечное отражение.
Но мне было не до обычного.
Я встал и опять очутился около Семги. Он дышал ровно, ровно, и от его чистого дыхания веяло рекой, блаженством и сумасшествием. И тогда я поверил! Да, да, я обрел веру. И не покину ее никогда. Все, что я говорил ранее о Нем, — в прошлом. Сейчас — я на дне. Я — один. Я превратился в семгу. И я обрел веру. Я плыл по речным потокам. И потом меня убили.
И я видел — своими чистыми, речными глазами, — как меня едят.
Но я обрел веру.
Прощайте.
Лицо
П. жил в маленькой засаленной комнатушке где-то в углу Нью-Йорка. Рядом был выход в метро. Из метрополитена всегда пахло мочой — полузвериной и на вид странно-грязной. Хотя мочились, падая внутрь, обыкновенные люди.
П. никогда не входил внутрь метро: боялся — убьют. Он слышал от эмигрантов — может быть, от эмигрантов с луны, — как обстреливают в метро. И он боялся.
А чего, собственно, ему было бояться? После того как он пересек заветную черту, себя он уже не помнил.
Неужели стоило бояться смерти тому, кто и так уже не существовал?
Иногда он выл по ночам. Но выл не оттого, что стал злобен, а наоборот — от пустоты. Правда, он пугался — сумасшедших, дыма из-под земли, вооруженных, как во время атомной войны, полицейских, акулообразных лиц в роскошных машинах, — но этот испуг скорее был от инерции, чем от его существа. Ибо его существо пропало.
Или, может быть, этот испуг от какого-то неведомого полуостатка его внутреннего существа.
Иногда он выходил в Нью-Йорк, присутствовал на некоторых вечерах — на квартирах. «Полуостаток» шарахался от хаотичных огней Нью-Йорка, от лиц с глазами как на долларовых бумажках. Возможно, эти люди были как-то счастливы, но особым счастьем, от которого П. становилось дурно.
Ровнообразные, толстозадые пасторы читали проповеди в «церквах». Проститутки и псевдовластители были идолами века.
Кроме того, пока полутайно цвела педофилия, но П. об этом не подозревал, потому что его существо ушло от него. Он считал, что везде царит пуританство, и даже «порнографию» он принимал за своеобразную форму пуританизма.
На вечерах — где бывали и профессора — он внутренне тоже отсутствовал. Толковать о религии, то есть о деньгах, считалось неприличным: нельзя говорить о самом интимном.