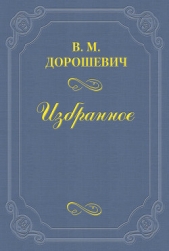Среди людей

Среди людей читать книгу онлайн
В книгу известного прозаика И.М.Меттера вошли избранные повести и рассказы из написанного им за сорок лет: "Люди", "По совести", "Пути житейские", "Алексей Иваныч" и др. Некоторые из этих произведений легли в основу фильмов "Ко мне, Мухтар!" и "Врача вызывали?". Герои Меттера - наши современники, обычные люди с разными характерами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я был очень счастлив. У меня было любимое дело, не дававшее мне опомниться. Вокруг меня жили люди, которым я был остро необходим, и в благодарность за это я любил их. Это были люди, владевшие чем-то, в чем я невнятно разбирался. Их усилия, воля и ум представлялись мне государственными. Я видел в них аскетов, жертвующих своим благополучием ради блага народа.
Поливаемые злыми уральскими дождями, засыпаемые снегом, по щиколотку в глине, по колено в сугробах, заметенные колючей пылью, они ранним утром шли из нашего корпуса по пять километров в один конец до площади Народной Мести, в комвуз. Темень стояла над землей, когда тем же путем они возвращались во втуз-городок. Пустяковая стипендия кормила их впроголодь.
Городские магазины были пусты. Порожние консервные банки стеной высились за спинами одичавших в одиночестве продавцов. Из этих же банок вздымались крепостные башни в витринах. И висели аншлаги: «Бутафория».
Про сою и маргарин писали в газетах, что они полезней мяса и масла. Ни сои, ни маргарина в продаже не было. Ученые доказывают на крысах, что обильная еда — вредна; полезно воздержание в пище. В тот год Свердловск жил полезно.
Никому из нас в комвузовском корпусе не приходило в голову, что можно жить иначе. Мы хлебали свои пустые щи в студенческой столовой, пили теплый мутный чай б/с — без сахара — и, упираясь головой в облака, дышали разреженным воздухом будущего.
Такого чувства своей правоты, какое было у меня тогда, я больше уже не припомню. Немедленная полезность преподавательской работы удваивала мое рвение. Комвузовцы начинали с нуля, и поэтому уровень их осведомленности зримо вспухал на глазах.
Уже гораздо позднее для меня прояснилась одна общая черта их мышления. Когда люди в тридцать — сорок лет узнают то, что положено знать детям и что дети запоминают походя, не затрачивая на это решающих сил своего сознания, это у немолодых, отягощенных жизненным опытом людей происходит драматично: запоздалое познание элементарных сведений плотно застревает в их мозгу, делая их неповоротливыми и невосприимчивыми к последующему познанию на более высоком уровне. Они трудно отказываются от того, что было достигнуто с таким адовым усилием. И они слишком почтительно относятся к тем упрощенным сведениям, которые были усвоены ими в неудобном для этого пожилом возрасте…
Комната во втуз-городке была дана нам на двоих: со мной поселился преподаватель математики Арсений Георгиевич Посмыш.
Посмыш был глуп. И у него была отвратительная манера писать в воздухе пальцем, как на доске: разговаривая, он водил средним пальцем правой руки подле лица своего собеседника. Этим путем Посмыш внушал свои сиротские мысли в письменной и в устной форме. Косясь на кончик его пальца, я укачивался.
При всем том его тонкое, красивое, значительное лицо было подпоясано ироническими губами. Откуда, из какого несправедливого сочетания генов приблудилось к Посмышу и это тонкое лицо, и эти иронические, умные губы скептика! Быть может, он обездолил своей случайной наружностью какого-нибудь мудреца, всю жизнь мучающегося с чужой для него восторженно-глупой физиономией Посмыша.
Я знаю, что был нехорош с ним. Сейчас мне совестно, что я так раздраженно думал о нем тогда. Посмыш преподавал математику лучше, чем я. Он любил ее и знал в совершенстве. Но меня замучила совместная жизнь с ним, его острая жажда общения.
В толстой клеенчатой тетради он вел дневник. В своем дневнике он не опускался до мелких житейских записей. Здесь были мысли. Выдержки из книг великих мыслителей, обнаженные, как провода высокого напряжения, — они производили в мозгу Посмыша короткое замыкание и перегорали, не освещая его сознания. Они били его своим током и уходили в землю.
Широкие поля клеенчатой тетради были усеяны замечаниями Посмыша:
«Нотабене!»
«Совершенно согласен»,
«Спорно».
«Применить на практике».
«Обдумать на досуге». Я прожил с ним три месяца в одной комнате. Его благоразумие, педантичность и даже доброжелательство раздражали меня.
По утрам он спрашивал:
— Надеюсь, сон освежил тебя?
А перед сном он писал своим длинным средним пальцем по воздуху:
— Разреши пожелать тебе приятных сновидений.
Он спал оскорбительно для меня крепко и просыпался улыбаясь.
Вероятно, я завидовал его душевному покою. Иногда мне хотелось разозлить его, но это никак не удавалось. В ответ на мою грубость он говорил:
— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.
Мне кажется, он жалел меня. Мне кажется, он искренне жалел всех, кто был не похож на него. Это была жалость непонимания. Он любил говорить мне:
— Я бы на твоем месте…
— Не будешь ты на моем месте! — огрызался я.
Посмыш был старше меня на десять лет. И я точно знал, что он не будет на моем месте. Да и не такое уж это было завидное место.
Когда Валя Снегирева приехала ко мне из Харькова, Арсений Георгиевич надел свой выходной костюм. Он волновался больше, нежели я. За месяц до Валиного приезда я сообщил ему, что женился.
— Поздравляю тебя от всей души, — сказал Посмыш. — И надеюсь, что цепи Гименея не помешают нашей закадычной дружбе.
Без всякой моей просьбы он тотчас пошел к коменданту дома и попросил у него место для себя в другой комнате.
— Если тебе нужны деньги на обзаведенье, — предложил Посмыш, — то мой кошелек к твоим услугам.
Взволнованный, он пришел к нам в первый же вечер; не переступая порога комнаты, протянул Вале букет цветов.
— Желаю вам и вашему супругу, — сказал Посмыш, — полного счастья в личной жизни и творческих успехов в труде.
В те времена еще не была придумана эта форма поздравления. Но Посмыш обладал поразительной способностью угадывать даже грядущие пошлости.
Он был добр ко мне. И в особенности — к Вале. Не замечая запухших от слез Валиных глаз, Посмыш восхищался всем, что она делала: крепко заваренным чаем, занавесками на окнах, шкафом, который она купила. Он ходил с Валей в кино и, приводя ее домой, игриво говорил мне:
— Надеюсь, ты не ревнуешь?
Он читал ей вслух записи из своей клеенчатой тетради. Продолжая восхищаться нашим семейным очагом, он не видел ни моего, ни Валиного растущего одиночества.
Саша Белявский рассказал вам правду, Зинаида Борисовна: я поступил с Валей непорядочно. Это я сейчас так думаю — тогда я так не думал.
Нынче я так же, как, вероятно, и вы, говорю молодым людям, что на смену первоначальной страсти приходит нечто большее — дружба, взаимная ответственность. Но дай мне бог, Зинаида Борисовна, испытать хоть один раз наново ту ярость вражды, ту полную безответственность, которыми раскалена молодая любовь. Дай мне бог снова метаться в этом пламени…
В Свердловске Валя окончила музыкальный техникум — сюда она перевелась на последний курс из Харькова. По окончании она получила направление в детдом. Работа музыкального воспитателя не заинтересовала ее. При тех отношениях, которые у нас сложились, вряд ли какая-нибудь работа могла бы ее увлечь.
Мы не ссорились. Мне кажется, я был внимателен к ней. За несколько дней до ее приезда я с трудом отыскал женщину, которая обещала мне три раза в неделю приносить нам молоко. По тем временам это стоило больших денег. Молоко доставлялось аккуратно. Давясь от слез, Валя пила это чертово молоко. Чем виноватей я чувствовал себя перед Валей, тем усердней я заботился о ней. Есть и такая форма подлости.
Вечером, когда мы ложились в постель, у Вали всегда были холодные ноги. В светлые ночи я видел, что она спит, приоткрыв рот. Если бы я любил ее, мне казалось бы все это трогательным. Из каких постыдных мелочей состоит отчуждение, испытываемое к женщине, с которой спишь!
Мы не ссорились. Ссора возможна тогда, когда ее причина произносима. У нас не было возможности произнести ее.
Я жил, хмелея и валясь с ног от запойной работы — по десять-двенадцать лекционных часов в день. Преподавание в параллельных группах оболванивало меня: четырежды на дню я талдычил одно и то же. К вечеру лица моих студентов неразличимо размывались передо мной от усталости, и мне чудилось, что я с утра объясняю одно и то же одному и тому же человеку. На обратном пути к дому во втуз-городок я продолжал механически производить в уме привычные действия: складывал и умножал номера домов и трамваев. И был счастлив, если получалось круглое число.