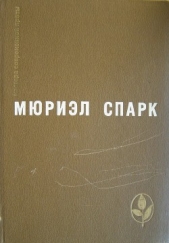Избранное - Романы. Повесть. Рассказы
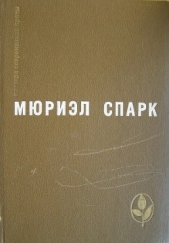
Избранное - Романы. Повесть. Рассказы читать книгу онлайн
В однотомник включены лучшие сатирические романы одной из крупнейших современных писательниц Великобритании: «Memento mori», «Мисс Джин Броди в расцвете лет», «Умышленная задержка»; антирасистская повесть «Птичка-„уходи“» и рассказы разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но чтобы у Дотти был любовник и чтобы им оказался Ревиссон Ланни, в его-то годы, — и то и другое казалось одинаково невозможным.
Я просидела всю ночь, ломая голову над двумя этими столь очевидно невозможными фактами. В пользу Дотти свидетельствовал маленький, вдвое сложенный формуляр, который она как-то мне принесла; я обнаружила его, когда искала пакет, и теперь он лежал передо мной на столе. В этом была вся Дотти. Она выложила два шиллинга шесть пенсов, чтобы завербовать меня с помощью этого формуляра в одну организацию. «Сообщество Богоматери-Вызволительницы», — гласил заголовок, а ниже, в порядке разъяснения, стояло: «Во Обращение Англии. Обрати Англию, Господи. Под Небесным Покровительством Богоматери, Св. Григория и Присноблаженных Английских Мучеников».Я сидела, читала и проникалась Доттиным благочестием. «Девиз», — возвещал разворот: «За Господа, Богородицу и Веру Католическую». Следом шло: «Обязательства: 1. Возносить ежедневную молитву об осуществлении целей Сообщества. 2. Участвовать в деятельности Сообщества. 3. Ежегодно жертвовать в фонд Вызволения не менее двух шиллингов шести пенсов. Флёр Тэлбот (вписано рукою Дотти) настоящим зачисляется в Вызволительницы Красного Креста. Частичные индульгенции: 1. Семь лет и семижды сорок дней.2 . Сто дней».
И так далее, с неукоснительным отсчетом индульгенций, душами в чистилище и всей прочей выспренней трескотней в обычном Доттином духе.
Я тоже была верующей католичкой, но не такого, совсем не такого типа. Если я и вправду, как всегда заявляла Дотти, чудовищно рисковала своей бессмертной душой, то подобные предосторожности все равно были бы не по мне. У меня было мое искусство, чтобы им заниматься, жизнь, чтобы жить ею, и вполне достаточно веры; а для всяких сообществ и индульгенций, постов, праздников и обрядов у меня просто не было ни времени, ни предрасположенности. Я всю жизнь считаю, что в религиозных вопросах не следует множить трудности — их и без того хватает.
Я говорю обо всем этом, потому что меня озадачило — с чего бы это в окне Доттиной спальни, да еще в половине третьего ночи, появился не Лесли, а посторонний мужчина. И снова, мысленно вернувшись к этому эпизоду, я увидела голову Ревиссона Ланни. С ним я встречалась раза два-три, не больше. Неужели возможно невероятное? Я начала сомневаться, верно ли оценила его возраст. На вид я дала бы ему около шестидесяти. То есть я была просто уверена, что ему под шестьдесят. Чем дольше я размышляла, тем возможнее становилось невозможное. Он не произвел на меня впечатления человека, живущего активной половой жизнью, но я как-то и не приглядывалась к нему с этой точки зрения. Так что возможность была, если, конечно, исключить, что Дотти скорей бы умерла, чем изменила живому мужу; в ее глазах это был смертный грех, который, попади она под машину, не успев сходить к исповеди, отправил бы ее прямиком в ад. Я знала ее образ мыслей. Нет, такое было невозможно. И все же, когда кенсингтонские птицы у меня за окном щебетом встретили ранний весенний рассвет, неверность Дотти предстала во всей своей абсолютной возможности.
Возможно, подумала я, она сочла необходимым встретиться с Ревиссоном Ланни, чтобы протолкнуть в печать роман Лесли. Она могла принести себя в жертву на алтарь Леслиной книги. Она была привлекательна, и Ревиссон Ланни в свои шестьдесят или даже семьдесят мог захотеть переспать с нею. Все это было маловероятно, но вполне возможно. Цепочку моих умозаключений закономерно увенчал вывод о том, что это не так уж маловероятно и весьма правдоподобно. Один вопрос, однако, все же остался без ответа: взяла ли Дотти «Уоррендера Ловита», а если да, то зачем? Было пять утра. Я поставила будильник на восемь и легла спать.
8
С первой почтой пришел фирменный конверт «Парк и Ревиссон Ланни К° Лимитед»; я прочитала письмо, еще не очнувшись от сна.
«Дорогая Флёр (если позволите),
в связи с Вашим романом „Уоррендер Ловит“ возникли небольшие затруднения.
Полагаю, нам будет лучше обсудить их при личной встрече, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, поскольку все слишком сложно, чтобы излагать в письме.
Пожалуйста, позвоните мне как можно скорее, и мы договоримся о встрече, чтобы разрешить этот щекотливый вопрос.
Неизменно
Ревиссон».
Письмо привело меня в ужас. Так оно всегда и бывает — старые тревоги приманивают новые беды. Было без четверти девять. Рабочий день у «Парк и Ревиссон Ланни» начинался в десять. Я решила позвонить в половине одиннадцатого. Я перечитывала письмо снова и снова, каждый раз со все более дурными предчувствиями. Что стряслось с моим «Уоррендером Ловитом»? Я изучала письмо предложение за предложением, и одно казалось страшнее другого. Через полчаса я решила, что необходимо с кем-нибудь посоветоваться. Намерения возвращаться к комедии на Халлам-стрит у меня не было. Еще до получения письма я решила заглянуть туда на минутку во второй половине дня, забрать кое-какие свои вещи, попрощаться с Эдвиной и начать подыскивать новое место.
С Ревиссоном Ланни я договорилась о встрече на тот же день в половине четвертого. Я попробовала выпытать у него по телефону, «что такого стряслось» с моим «Уоррендером Ловитом», но он отказался что-либо объяснять. Тон у него был раздраженный, слегка неприязненный; он адресовался ко мне «мисс Тэлбот», забыв о «Флёр (если позволите)». Тогда я не знала того, что знаю теперь: обычная паранойя писателей не идет ни в какое сравнение с неизлечимой шизофренией издателей.
Судя по разговору, Ревиссон Ланни явно нервничал по какой-то причине — предположительно из-за денег, которые он, весьма вероятно, потеряет на моей книге; предположительно из-за желания пересмотреть условия нашего договора; предположительно собираясь просить меня внести в роман существенную правку; перебирая все эти предположения, я решила, что откажусь менять в книге что бы то ни было. Потом мне пришло в голову, что, отправляя гранки, Тео и Одри могли приложить к ним неблагоприятное заключение о романе. Я еще раньше им написала и поблагодарила за чтение гранок и не очень поверила Дотти, когда та с садистским наслаждением излагала мне, чт о сказали Тео и Одри, всегда хорошо ко мне относившиеся. Но в то утро, после жуткого дня и бессонной ночи, я плохо соображала. Я позвонила им, ответила горничная, я попросила позвать Тео или Одри. Горничная вернулась и сообщила, что они работают в своих кабинетах.
Я снова легла в постель и в первом часу была готова к беседе с Ревиссоном Ланни. Сон так меня освежил, что предстоящую встречу я начала ожидать не без интереса — мне хотелось еще раз на него поглядеть и прикинуть, способен ли он переспать с Дотти или другой женщиной. Мне даже хватило времени забежать по дороге в Кенсингтонскую публичную посмотреть его возраст в «Кто есть кто». Год рождения — 1884. Дважды состоял в браке, сын, две дочери. Сев в автобус, я вычислила, что ему шестьдесят шесть лет. Тогда этот возраст показался мне весьма преклонным, не то что сейчас. Взглянув на Ревиссона Ланни у него в кабинете, я уверилась, что в Доттином окне маячил именно он. Он жестом предложил мне стул, и я, усаживаясь, подумала — сказала или нет Дотти этому старому козлу, что, скорее всего, это я распевала в два часа ночи «За счастье прежних дней». Одновременно пришла и другая мысль: Дотти могла найти в нем все что угодно, но только не сексуальную привлекательность.
— Итак, — заявил он, — я хочу, чтобы вы знали, как высоко мы ценим вашу работу.
Я отметила «мы» и насторожилась. Когда он вел речь об «Уоррендере Ловите», то частенько переключался с «я» на «мы» и обратно. Выражая свои восторги и живой интерес к роману как к образцу новой молодой прозы, он и в письмах, и в беседах употреблял «я»; когда же требовалось подчеркнуть, что издание может принести убытки, он неизменно обращался к местоимению «мы». Теперь мы снова вернулись к «мы».