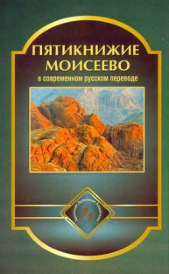Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да ничего мы не сказали. Пока я тебя ласкал, ты молчала.
— Разве этого мало? Самым красноречивым бывает именно молчание. Что ты собираешься делать сейчас? У меня нет сил, чтобы пригласить тебя домой, понимаешь?
— Понимаю. Но не могу поверить, что мы расстаемся. Вот так, сейчас, сию минуту… Разве так можно — прощай навсегда!
— Если ты очень настаиваешь, можем позвать духовой оркестр.
— Больше подойдет похоронный оркестр. Потому что дом сгорел.
— Какой дом?
— Старый наш дом. Моего деда Аврама и бабушки Мазаль. Сегодня ночью люди Караламбова его подожгли.
— И хорошо сделали. Хотя бы потому, что навсегда лишили тебя детской амбиции поиграть с ними в игру, в которой ты ничего не смыслишь. Занимайся своими византийскими проблемами, там тебе все знакомо и понятно. Схизмы, догматы, азиатская праматерь Ма и прочее.
— Жаль, что в том ресторане я забрызгал ему брюки шампанским, а не томатным соусом! Не знаю, сказал ли бы он в таком случае, что разбитое приносит счастье.
— Так он же и вправду тебя не обманул! Мне принесло. Эти полчаса счастья — здесь, с тобой. Милый мой Берто, Бертико… Ну, все, сейчас мне нужно идти!
— Прошу тебя, останься хоть ненадолго, хоть еще чуть-чуть побудь со мной, прошу тебя. Вот тебе телефон. Позвони, что опоздаешь. Хочу, чтобы мы сходили к старому Костаки. Вдвоем. Нельзя с ним не попрощаться.
— Хочешь продлить агонию?
— Пусть это останется между нами, но по своей натуре я — садомазохист.
Мы выходим из такси, окошко фотоателье «Вечность» светится мягким желтым светом. Занавеска опущена, я стучу в окно.
— Дядя Костаки!
Мне кажется, что внутри мелькнула какая-то тень, но на стук никто не отвечает. Приникаю к щели, оставшейся сбоку от занавески, но опять вижу только быструю тень, которая пробегает мимо железной кровати старика. Снова стучу.
— Костаки! Костас Пападопулос!
Никакого ответа.
Обхожу дом со двора, лезу на качающуюся под ногами кучу ящиков и пустых сундуков, чтобы добраться до маленького окошка. Приникаю лицом к тяжелой турецкой решетке. Отсюда видна часть ателье — та самая, с грудами коробок и отражателей, со старым фотоаппаратом на треножнике, порванным панно, по которому куда-то плывут греческие лебеди. Сверху, из лаборатории, струится красная магма света, а повсюду висят скрученные фотопленки, разбросаны коробки с фотографиями, желтые конвертики со стеклянными негативами, которые Костаки так свято берег.
Вдруг я вижу, как за провисшей порванной портьерой и остатками картонной античной колонны мелькает сам Костас Пападопулос, который деловито зажигает свечи на полках, на столе, на подоконнике, оставаясь глухим к нашим крикам.
Проталкиваю кулак через решетку и снова истерически стучу.
— Костаки!
Коробки и сундуки под ногами разъезжаются в стороны, и я оказываюсь внизу, среди сломанных досок и всякого мусора.
— Беги! — говорю я Аракси, тяжело дыша. — Найди телефон, зови полицию!
Снова смотрю сквозь щель в занавеске. Вижу, как старый византийский хронист спокойно продолжает зажигать свечу за свечой, пока всемирно известное ателье «Вечность» господина Костаса Пападопулоса не начинает походить на храм во время торжественной литургии.
Костаки ложится на железную кровать, это мне хорошо видно, бережно складывает очки, кладет их на стул. И укрывается одеялом, будто отходя ко сну.
Все мне ясно. Я стараюсь высадить плечом массивную дубовую дверь, добротную, какие делали в прежние времена, но она не поддается.
В это мгновение, как можно было предположить, огонек какой-то свечи касается краешка свисающих скрученных фотопленок.
Сквозь спущенную занавеску вижу, как все внутри вспыхивает. Локтем разбиваю стекло, изнутри вырывается тяжелое дымное пламя. Снова подбегаю к двери, и с разбегу срываю ее вместе с петлями. Меня буквально отбрасывает назад огонь, вырвавшийся на свободу.
Фотоателье «Вечность» Костаса Пападопулоса горит, как факел.
Горят византийские хроники исчезнувшей жизни, что-то вроде жития уногундуров, хазар и печенегов. Превращается в дым и пепел бытие великолепного неповторимого города — со старой турецкой баней, верблюдами и мороженым из топленого овечьего молока, с добрыми маленькими праздниками и большими бедами, с его простодушными и доверчивыми жителями, с трактирами, сладостным грехом и жаркими снами.
Горит Пловдив моего детства.
Где-то вдали воют пожарные сирены, в стенах соседних домов отражаются красные блики пламени, потом к ним присоединяются отсветы синих полицейских мигалок.
Небо над Пловдивом светлеет, рассвет еще только зарождается — хмурый, по-осеннему серый.
Мы с Аракси стоим на противоположном тротуаре, я весь в саже, с многочисленными царапинами на лице, опаленном вчерашним пожаром. Руины фотоателье «Вечность» еще дымят, кругом суетятся пожарные и полицейские.
Мы молчим.
— Он тогда сказал, что придут туманы — тяжелые и густые, как дым от пожарищ. И угадал: два пожара за два дня!
— Зачем он это сделал? — спрашивает Аракси. — Зачем?
— Потому, что потерял надежду…
— Надежду на что?
— Надежда — это ведь состояние души. Ей не нужны основания, чтобы существовать. Надежда, она как вера — беспричинная, абсолютная, безусловная. Ей не нужны аргументы и доказательства. Она или есть, или ее нет. Как природа. Как звезды. Они, в свою очередь, — состояние материи. Поэтому ужасно, когда надежда тебя покидает. Все равно, что гаснут звезды… Знаешь, на что она похожа?
— Надежда? Нет, не знаю.
— На тыкву.
— На тыкву?
— На большую желтую тыкву.
Она смотрит на меня с подозрением.
— Ты в порядке?
— Нет. Мне сейчас очень плохо. Вспомнил деда. Он ведь тоже потерял надежду. Но, помнится, как-то раз показал мне ослика, который ее никогда не терял. У ослика была надежда, что тыква будет расти и наливаться. Вроде бы осел, а верил… Иначе, какой смысл крутиться вокруг столба?
Она снова тревожно смотрит на меня и спрашивает:
— Ты действительно в порядке?
Я оставляю ее вопрос без ответа. Глаза мои полны слез.
В дни Большого Переселения я впервые стал терять следы Гуляки в бесконечном пловдивском трактирном архипелаге с его тайными заливами и возбужденными шумными причалами, где скрещивались и расходились в стороны дальние питейные маршруты. Напрасно я искал его в лабиринте за Большой мечетью, и наверху, у армян, и в маленьких ремесленнических капканчиках-забегаловках у реки. Мне неведомо, может быть, он смог усовершенствовать свою каббалистическую таинственную способность мгновенно исчезать, чтобы появляться в другом месте, или просто-напросто скрывался от всех и не хотел никого видеть. Так же, как не хотел, чтобы видели его.
А хозяева трактиров, да будут они благословенны, продолжали наливать ему в кредит, и вряд ли кто-нибудь из них рассчитывал когда-либо получить свои деньги. Но Гуляка страдал, а настоящий благородный корчмарь, подобно жрецу в храме, не мог остаться безучастным, когда его прихожанин, покрывший такое количество церковных куполов и крыш налоговых и других учреждений, сделавших столько кухонных плит для женщин и цинковых корыт для детей, страдает.
Бабушка Мазаль жила в постоянной тревоге, которую разделяла со всеми родственниками и соседками-еврейками. Она помогала им упаковывать вещи, приготовить «бюрекас» и «кесадас», то есть разную снедь в дальнюю дорогу, поскольку путешествие предстояло длинное: сначала поездом до моря, а оттуда — на пароходе до Хайфы. Некоторые уже уехали, другие, в ожидании следующего рейса, обходили соседские болгарские дома, чтобы попрощаться.
Моя бабушка плакала — когда тайком, когда открыто, но не из-за регулярно исчезающего мужа, так как он рано или поздно снова появлялся. Она испытывала неловкость, граничащую со стыдом, что все уезжают, а мы остаемся. Причем, остаемся из-за упрямства деревянной башки и последнего torpe, тупицы, как она деликатно называла деда.