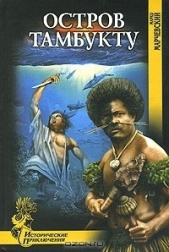Бунташный остров

Бунташный остров читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагается сборник произведений известного русского писателя Юрия Нагибина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Паша… О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После стольких лет… После твоего воскрешения…
— А я и не умирал, — прервал он с подавленной злостью, он овладел собой, но внутри все клокотало. — Я умер лишь для тебя… и Скворцова.
— Бог с ним, со Скворцовым, — устало сказала Анна. — Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.
— Пропал — не убит.
— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.
— На тот край света ты бы не примчалась, — сказал он почти спокойно.
— Почему?
— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было… Конечно, я думал о тебе, — произнес он с усилием, — зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло… Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?
Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Пропавших лет не вернуть. Так зачем теперь и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. «Паша, — хотелось ей сказать, — опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина — пусть ненастоящая — из Сердоликовой бухты». Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с задавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.
Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспосабливали инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставлявшей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны не обязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.
— Хорошая история? — спросил он злорадно.
Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.
В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся загубленная жизнь.
Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:
— Лежи спокойно. Усни. Я сам.
…Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Скворцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не уползешь в берлогу, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека, а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозного и безжалостного, что есть на свете, — от государства, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть — где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Скворцова, стороне десятилетия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантюр. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Скворцов допускал рассудку вопреки, что тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и непостижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уже о нем. За ее утомленностью — громадная энергия… разрушения. Она способна на любой поступок. Скворцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; оттуда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бессильным перед стихией.
Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват — позволил расслабиться чувству самосохранения. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не пришел — в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил… А так и надо жить, только так: заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Неужели на свете мало вполне безопасных мест? Можно было махнуть машиной в Таллин. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль-бар, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка наврет. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если… если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза… Скворцов вдруг заметил, что грызет ногти. Отвратительная привычка с детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему. Он обкусывал ногти, отдирал зубами заусеницы до крови, выгрызал мягкую кожу под ногтями и с упоением поедал обкуски собственной плоти, будто и впрямь примерялся к лисьему способу освобождения из капкана…