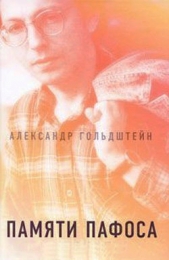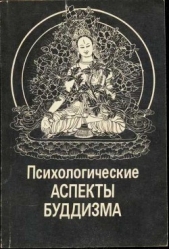Аспекты духовного брака

Аспекты духовного брака читать книгу онлайн
Новая книга известного эссеиста, критика, прозаика Александра Гольдштейна (премия Антибукер за книгу «Расставание с Нарциссом», НЛО, 1997) — захватывающее повествование, причудливо сочетающее мастерски написанные картины современной жизни, исповедальные, нередко шокирующие подробности из жизни автора и глубокие философские размышления о культуре и искусстве. Среди героев этого своеобразного интеллектуального романа — Юкио Мисима, Милан Кундера, рабби Нахман, Леонид Добычин, Че Гевара, Яков Голосовкер, Махатма Ганди, Саша Соколов и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бесспорно важнейшая проза Калассо, «Ртуть и песок», вызвала недолгий, замешенный на недоумении переполох и была заслонена двумя другими, об африканской и греческой мифологиях, сочиненьями автора, развивающими постулаты «Ртути» и тоже возросшими в библиотечном фамильном раю. Мифы, утверждает он, соответствуют главной и единственной цели анализа — выделению из текста эликсира солидарности. Эту растворенную в акте чтения духовную и как будто метафорическую операцию Калассо описывает в терминах физических процессов, словно всерьез собирается доказать, что в прожилках и волокнах текста накапливается, требуя выхода, особая, трансформирующая бытие материя или энергия, высвобождению которой обязан посвятить себя гуманитарий; именно это он и доказывает, склоняясь попутно к заклинательной магии и честно оправдывая титул концепции. Даруемые мифологией солидарность и соболезнование обусловлены тем, что мифы предстательствуют за нераспыленный порядок, в них по сей день скрыто месторождение единящей, враждебной отчуждению субстанции, и это месторождение ждет разработки. Соболезнование же есть следствие чудовищного содержания мифов, ибо, по мысли Калассо, человека могут примирить с жизнью только ужасные истории. Страшные рассказы любят дети, то есть малые люди, близкородственные подпочвенному слою видений, их сознание пуповиной первообразных снов связано с довременной тьмою и не одеревенело от анестезирующих уколов рассудка. Совместное переживание страшных историй, разыгранных в театральной мистерии, было условием цельности афинского полиса и предпосылкой очищающих коллективных эмоций, прозванных катарсическими (катарсис — приготовительная стадия утешения). То же было во множестве прочих культур, осязавших мрак мифологий, лопающихся от насилия, жутких деяний, кощунств и лишь потому заряженных обетованием милости. Но чтобы миф стал светом и милостью, его нужно очистить от фабульного бешенства, переключив отрицательную поэзию в сферу блага, — так поворачивают русло реки.
По ступеням практикуемой терапии филолог спускается в гущу мифа, отождествляясь с его персонажами, забирая себе их грехи, неведенье, страхи. Зачаровывающая техника перевоплощения (ее косвенно и отчасти предвещает атмосфера поздних юнговских опусов, где автор, разбирая, к примеру, алхимиков, сам переселяется в них) велит испытателю, невзирая на угрозу длительного застреванья в измененных областях ума, слиться с теменью древней психики, чтобы, возвратившись назад, вернуть усвоенное им чувство рока, заброшенности, смерти и воскресения, воскресения в слитном уделе живущих. Тому, кто взялся быть проводником и гонцом вести, пристало обладать знанием окончания собственной жизни. Тотальное погружение, равное интервенции Кашин-га в индейское племя, когда шесть месяцев спустя одно полушарие мозга сверялось с воем койота и лунными фазами, а второе препоручило свои мысли рукам.
Неотчужденное чтение помогло Роберто Калассо. Верю, оно поможет и мне.
Яффа, монастырь Св. Петра и, кажется, церковь Св. Петра. В этом городе многое является вдруг и внезапно, из ограды, стены, из остроугольного переулка, из клетушек османских времен. Многое, но не церковь и монастырь, так не вяжущийся с внушительным образом, каким я в юности, читая и грезя о монашеском подвиге, наделял обитель католичества; они могли стоять где стояли, никто не ждал от них эскапад.
В тот день я впервые вошел в монастырь, в его внутренний двор, род латинского патио, напоенного медвяным покоем, подгнившей зрелостью плодов и летучим, чуть креольским ароматом женской месячной крови: шесть капель ее на стакан вина — секрет непопираемо алого великолепия папства. Пол был вымощен ромбовидными плитками. Рослые платаны и пальмы не скупились на тень. В глубокой чаше фонтана, в ином царстве яшмовой или нефритовой, вода шептала те самые звуки, которым ее, дабы не тратиться на описания, десятки поколений назад обучила леность повествователей. Ангел держал крест в облупившейся тонкой ладони. Строгая фигура его освещалась рассеянным взглядом с небес. В сопредельном зальчике на скамьях вдоль беленых стен сидели стрекотно щебечущие филиппинки, их испанская речь колоний была путана, весела и стыдлива. Крытый клеенкою стол они завалили в складчину купленной, сообща приготовленной снедью, пластиковой посудой. Трое молодых людей на диво понятно болтали про далеких жен, четвертый, у окна, тихонько тренькал на гитаре, всем видом доказуя, что музыка еще возьмет свое этим вечером.
Я решил высмотреть, как они развлекаются, и присел на краешек в углу. Несколько десятков встревоженных, напрягшихся, обескураженных взоров с прямотою несчастья вперились в меня. Вдвое больше рук протянулось, и если б полиция, нагрянув с проверкой, сняла отпечатки пальцев, узор нашла бы она идентичным, одни и те же линии мольбы, отчаянья и скомканной надежды. Иноземные трудовики, штопаная поросль сирот (юго-восточных пришлецов, в особенности их копошащихся, никогда не устающих женщин, отличает невзрачная, перышко к перышку, чистоплотность), они сошлись в заштатном филиале Рима, чтобы на пару часов забыть о торгашеском племени, которому незадорого сбыли свою муравьиную клейкость, притертость деннонощного послушания. Здесь, в тенистом дворе и отзывчивых келиях, собрались они в кои-то веки от меня отдохнуть, спеть тагальские песни невольников, оплакать выбранную долю, закусив ее пирогами, свернутыми трубочкой блинами с мясцом и запаренной овощью, сладковатыми соленьями, солоноватыми сластями, толковыми к легкому хмелю. Вспомнилось, как в Тель-Авиве они, живущие у немощных богатеев, стариков и старух, целыми стаями арендуют конурки в трущобах, приходя туда по субботам перевести дух, изнемогший с евреями, отписать домой письмецо, покурить табаку или травку в креслице у крылечка, мужчины склонны к наслаждениям, а женщины выметут прах, разогреют баклажаны и тыкву, дадут младенцу сосок, повесят гамак у забора.
Сбоку взялся крепыш, сунул под нос бортовой журнал. Я увидел долгий ряд фамилий, выведенных прилежными чернилами. Господин, залопотал он по-испански, и его сильная мысль сообщилась мне без помех, сопровождающих перевод с языка на язык, господин, я сожалею, но вашего имени нет в списке участников и приглашенных, у нас нынче праздник, не знаю что и сказать, да только правила таковы, что посторонний, тем паче, смею подозревать, не католик, даже и вовсе не христианин, должен оставить нас, я прошу извинить, прошу извинить, у нас праздник… В глазах его темнело страдание от того, что я все еще не убрался. Ну конечно же, праздник. У моей квартирной хозяйки тоже был безвылазный раб, которого она, упражняясь со мною по-русски, звала «Филиппин» и отпускала на «ихний сабантуй филиппинов», раз эдак в три недели. Парень, уверяла она, чертовски любит работу, прямо волком воет без дела, — когда у меня в комнатенках, в ее то бишь доходных апартаментах, что-нибудь не ахти сложное надобно было чинить (дверь, окно, жалюзи, сливной бачок), тут же, экое бесплатное счастье, гнала его ко мне, запрещая давать ему деньги, еще зажирует в достатке, но я тайком совал дешевые бумажки. Забавно, так и не спросил его имени, для меня он был молчаливым орудием, а тетка, дичая от обезножевшего мужа и безголового сына, душевно с ним разговаривала, даже откровенничала, величала по батюшке. Хотел вызнать, из каких он краев, где, мол, детки, жена, нравится ль Средиземное взморье, и тотчас забыл от полнейшего безразличия. Судьбы рабов — избитая тема. Боясь озлить каргу, он бодро стучал молотком, в его положении я бы тоже старался на совесть.
Я вышел, награжденный человеческим вздохом и каменным укором ангела. Вода в барочной чаше фонтана пробормотала сонную строку. Две птицы из монастырского сада, сказав «чивита веккьо», «буркина фасо», на радостях запели францисканский гимн. Моего имени нет в амбарно-бортовом гроссбухе филиппинов.
Политический текст
В разговоре неуважительно отозвались об Оруэлле — англичанин, было сказано, всего лишь писатель легко читаемых книг, каждая из которых — простая схема управления эффектами, эффектами читательских страхов. Этого я стерпеть не могу, незамедлительно письменно откликаюсь. Оруэлл был ясновидящим, то есть в максимальном объеме исполнил предельную, согласно Рембо, задачу поэта — осуществляемая при помощи слова, она словом не замыкается, выводя поэта туда, где ему предстоит выполнять и иные, помимо словесных, обязанности (о них в другой раз, сам Рембо не очень отчетливо описал их в потрясающем письме к Изамбару, но они есть, эти задачи). Ясновидящий — это тот, кто ясно видит вещи, в обладании которыми отказано его органам чувств, и, компенсируя эту нехватку, созерцает их внутренним взором, делая достоянием своего внутреннего, безупречно справедливого опыта; мы с высокой степенью вероятности можем говорить о буквальной, физической проявленности этого взора и опыта, что, конечно, не отменяет их мистического содержания, смысла. Как Сведенборг, озаряемый вспышкою понимания, чьим счастливым пленником он стал в 1745 году и с той поры до самой смерти с ним не прощался, увидел иерархии ангельских чинов, их свечение, одежды, строй и порядок, а равно проник в сущность брака на небесах, в управление адом и соединение человека — через духов — с адским огнем, так Оруэлл из такого же непостижимого далека узнал реальный, осязаемый план коммунизма.