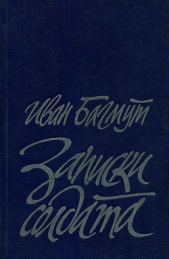Записки лимитчика

Записки лимитчика читать книгу онлайн
В книгу челябинского писателя вошли повести и рассказы, в которых исследуются характеры людей, противостоящих произволу, социальной несправедливости. Активный социальный пафос автора убеждает в том, что всякое умолчание о социальных бедах — то же зло. Книга утверждает образ человека, открытого миру и людям, их страстям и надеждам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну ты и дура! Муж из армии вернулся, а ты...
Жалкий лепет, конечно. Перед глазами любимое, нагое. Отчаяние не имело слов, цвета, запаха.
Через день ушел к матери, тогда же подогнал грузовую машину, шофер был из общежитских, ухмылялся, увез шкаф с книгами. Была поражена, почему-то особенно ошеломил ее увоз книг, как будто, пока стояли книги на Закарпатской, надеялась повернуть жизнь как хочется — то ли так, то ли эдак. То ли с тобой, то ли с тем. Кстати, тоже Владимиром. «Ты обокрал сына!.. — кричала. — Как ты мог?» Лишался дара речи: не понимал, как могла не чувствовать, не понимать. Ведь врач! И кому оставлять книги? Неверной жене с любовником?.. В вину вменялось, главным образом, то, что увез, пока была на работе...
Ванчик был тогда садиковый. Через неделю столкнулись в центре, может быть, следила, в гастрономе, сына привезла с собой, разыграла комедию: сын отказывается от отца — возле витрин с пряниками, конфетами. Точно меняет отца на сласти обещанные... Но слова маленького прожгли:
— Ты мне не папа! У меня другой, лучше...
Считал это предательством. Глупо, конечно. Какое там предательство! Мальчишку использовали для нанесения удара. Только помнилось почему-то всегда, саднило, не заживало.
Как не заживало никогда все, связанное с Москвичом. Или Москвой, как его еще звали. Он был из эвакуированных москвичей, после войны они не смогли сразу уехать, и в сорок восьмом, сорок девятом он появлялся среди нас. Москвич был необыкновенен: очень стройный, с красивой походкой полетистым шагом, каким ходят только очень стройные люди, со смазливым личиком, — он, казалось, нес тайну взрослой жизни. Мы просто замерли, когда увидели его в первый раз.
— Вот это да-а!.. Кто это?
Да, может, и слов не нашли — стояли в бессловесном ошеломлении. Пробивалась догадка: наш сверстник и — почти взрослый! Он явно умел нравиться, знал, что это такое...
— Это Москвич, — сказали в один голос братья Урайкины, Борля и Лёвик. А старший Борля прибавил: — Гад буду, если вру...
У него вышло «врлу».
На пацане был костюм в клеточку, может быть, доставшийся от американской помощи, — раздавали почти новые вещи в конце войны, у нас в основном комсоставу, но попадали и в семьи рядовых фронтовиков, хотя в нашу, например, семью, ничего не попало... Так вот, костюм на пацане был сшит по-взрослому...
— Знаем мы таких Москвичей! — завопил было хулиганистый Аркан, понадеясь на нашу косность, и сплюнул. Ошибся: ни плевать, ни орать не следовало, Москвич был подлинный. Пацаны, пережившие войну, мы знали, что москвичи авторитетны. Им и шпана нипочем. Но, конечно, мало-помалу очнулись от необыкновенного впечатления, хохотнули... Москвич был само достоинство, провожал нас спокойным взглядом.
Он холодновато сойдется с нами, но до игр не снизойдет. И мы не притязали на его дружбу — ни я, ни Жека, ни Жорка Тер. Разве что Урайкины раболепствовали. Мы уважали его холодность, любовались им, его изяществом, его знанием чего-то, что нам пока недоступно; но мы надеялись, что время наше придет. Ведь время тогда работало на нас!
Оно действительно работало... Прошло несколько лет.
— Москвич приехал... — однажды пронеслось. Кричал кто-то из барачных ребят.
— Какой?
— Забыл? Москвич, ну, Москва, помнишь?
Он появился — как когда-то. По-прежнему всем нам чужой. И снова было ошеломление. Мы глядели на него изумленно и, пожалуй, злорадно: бедный, он не вырос!.. А мы все уже вытянулись, стали выше его на голову, больше. И мы не восхищались теперь его горделивой стройностью, холодом его красивого лица: он остался нашим прекрасным прошлым, немного загадочным, как пышные летние облака или купание в грозу, — но он остался мальчиком... Что за взрослость чудилась в нем прежде? Мы были теперь взрослей! Несколько человек наших давно курили, почти прилюдно, а один даже уединялся в сарае с Нонкой Матросовой, девчонкой постарше нас, и потом, потея от общего внимания, намекал, что она позволяла многое... Москвич явно отстал от нас. Мучило: зачем он приехал? Тут было еще что-то, что не давалось, понять невозможно. Если он приехал на посмеяние... Верно, уж он испытывал судьбу! Все-таки осталось впечатление вины перед ним, точно мы были действительно виноваты, что он не вырос. Своего рода предательство: мы его предали, он остался в детстве... И он приезжал в этом удостовериться...
Прежде я воспринимал столицу по-другому — да и неудивительно! В пятьдесят третьем в летние каникулы приехали с географом на экскурсию, жили в школе, она пряталась за дома, выходившие на Бауманскую площадь, — кажется, на месте школы стоял прежде дом, где родился Пушкин. Елоховский собор поразил тем, что полно народу и служба идет... Провинциалов именно и поразил. Заглянули туда, разумеется, втайне от географа — Зосимов исповедовал дисциплину прежде всего, в войну был комбатом, знал, на что мы способны, хоть всего и не мог предположить. И мы с Борисом откалывались от всех, а то и я один. Была такая тяга — отколоться. Скитался в метро, перебывал на всех линиях и, наверно, на всех станциях, выходил на вечерние улицы, куда глаза глядят шел, снедало страшное любопытство, от Каланчевки дошел до Сокольников, заехал в Марьину рощу, точно очутился в прошлом веке... Однажды заблудился, вернулся после полуночи, потрясенный видением ночного города, своими расспросами, последним пустым троллейбусом. Географ проклял, но как-то равнодушно, до обязанности, а сам смотрел с любопытством, словно видел впервые. Обещал матери написать. И написал — она мне потом нерешительно выговаривала. Отец уже с год как умер, если вычесть время войны, знал его семь лет, походило на безотцовщину.
Деньги у нас к концу вышли. Оплатили обратные билеты, чего-то не рассчитали, где-то промахнулись с питанием; с собой у меня был рюкзак с остатками домашнего печенья на дне — просто мелким крошевом, из которого, правда, можно было выбирать, что я и делал; у других тоже что-то оставалось. И тогда Зосимов предложил эти домашние остатки снести всем на стол...
— Ребята, раз так получилось, давайте все вместе. — Он говорил глухим, надорванным голосом, морщился, отчего многочисленные морщины на его лице двигались, играли. — Приказано не унывать! — пропитаемся... Не такое бывало.
Никакой тревоги не было, объявил — и все. Впрочем, на столовую раз в день что-то еще оставалось. Свой рюкзак... Но постыдился я своего рюкзака с крошевом сладким — не жадность одолела, не возможность тайного одинокого пиршества — только стыд! Не объяснить. Ведь открыть его и высыпать крошки — значило обнажить бедность семейную. Могли быть смешки. А уж это-то совсем непереносимо. У Бориса отец — начальник цеха, жили они в коттедже для специалистов, обнажать бедность перед ним не хотелось. Хотя могли знать, догадываться, говорили, конечно, в семьях; мать с тремя осталась, один был беспомощный больной, ноги не ходили, пенсия была обыкновенной, не прожить, мать сразу же стала устраиваться на работу. Пошла, на кузнечно-прессовый, где работала в войну, в бухгалтерию к Абраму Зельмановичу... К мешку больше не притрагивался, словно забыл, где он лежит, но через день вечером именно Борис встретил меня после очередной отлучки з н а ю щ и м взглядом.
— Печенье твое улыбнулось, — медленно сказал он и неприятно улыбнулся. — Чего же,ты сам не отдал?
Я мгновенно понял, что попал в глупейшее положение: могут истолковать — и уже истолковали! — неправильно; но что-то задиристое пело во мне, разгорался опасный огонь противоречия.. — Да какое там печенье? Смех!...
Был, разумеется, кругом неправ. И, пожалуй, жалок. Зачем пытался оправдываться?..
«Альфа, бета, гамма...» — так Борис дразнил меня, перечисляя нас, братьев Невструевых. Подступало мало-помалу то, что станет потом ревностью, уязвленным самолюбием, желанием освободиться от постыдного: существования на вторых ролях, зависимости дружеской, но — обрекавшей... Настоящее освобождение наступило позже — и вот что горько! — наступило навсегда, когда однажды, перед самым окончанием школы, Борис познакомил меня с приехавшей сдавать в медицинский северянкой — Катериной. Она была старше нас на год и завоевывала тогда нашу окраину: ходила на танцы в Дом культуры с двоюродной сестрой, знакомилась, танцевала упоенно, от провожатых отбою не было — тетка ее и бранила, и, обманутая не раз, в конце концов рукой на нее махнула...