Шестьсот лет после битвы
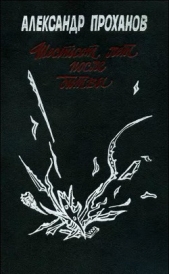
Шестьсот лет после битвы читать книгу онлайн
Роман А. Проханова «Шестьсот лет после битвы» — о сегодняшнем состоянии умов, о борении идей, о мучительной попытке найти среди осколков мировоззрений всеобщую истину.
Герои романа прошли Чернобыль, Афганистан. Атмосфера перестройки, драматическая ее напряженность, вторжение в проблемы сегодняшнего дня заставляют людей сделать выбор, сталкивают полярно противоположные социальные силы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он вел управление. Стройка казалась ему огромным больным существом, в стонах, в зовах о помощи. Из нее истекали потоки сукрови, ее сотрясали судороги. Она пучила глаза. Не могла найти себе места. Ворочалась с боку на бок среди промерзших вод и земель. Он хотел ей помочь. Накладывал на нее бинты и компрессы. Сращивал ее переломы. Остужал ожоги. Пытался при этом понять причину болезни, поставить диагноз — что подкосило жизнь? Что внесло в нее муку? Заставило страдать не только людей, но и железо, бетон, металлические опоры и крепи.
Завидовал летчикам, ведущим бомбардировщик. Махина, набитая до отказа приборами, начиненная оружием, бомбами, меняла высоты и курсы. То стлалась над самой землей, то шла в стратосфере. Варьировала геометрией крыльев. Ориентировалась по приборам и звездам. Отбивалась от атак перехватчиков. Уклонялась от зенитных ракет. Окутывалась завесой помех. Огибала циклоны и бури. И в точный, заложенный в программу момент, достигнув рубежа удара, шла на цель, сбрасывала ракеты и бомбы, провожая их в прицельную оптику. Оставляла за спиной пожары и взрывы, ложилась на обратный курс, и летчики на предельной усталости, в сверхперегрузках, с лопнувшими в глазах сосудами, владели и управляли машиной.
Он, инженер, управленец, руководитель стройки, был не в силах ею управлять. Где-то в Белоруссии бушевала метель, несчастный шофер махал в буране лопатой, вызволял грузовик, в котором застряли детали. Страны НАТО наложили запрет на поставку в СССР технологии, лишили станцию комплекта приборов, и пришлось заваливать министерство депешами, посылать ходоков за Урал, заказывать в Сибири приборы. У кладовщицы Нюры в семье большой праздник, приехал любимый тесть, она загуляла, не вышла на работу, и три бригады, матерясь, полсмены сидят без дела. Стройка болеет, стонет, истекает кровью, а он, диагностик, врач, не в силах ей помочь.
Иногда ему казалось — вот-вот он нащупает путь. Совершит открытие, изыщет метод. В этой путанице, в хоре не слушающих друг друга певцов, есть какой-то простой закон, и надо только его обнаружить. Он есть, существует — захламлен и замусорен, закидан, как бывает закидан на стройке какой-нибудь важный узел, накрытый кучей обрезков. Он, инженер, прошедший несколько строек, побывавший за границей, искушенный в руководстве строительством, изучавший системы управления по американским, японским источникам, он чувствовал: метод есть, он прост и доступен, и только не хватает последнего озарения мысли.
Иногда же ему казалось, что все безнадежно. Весь его опыт и ум, весь опыт и ум других, пластичность и гибкость, изобретательность и порыв бессильны перед жесткой, неверно заложенной в стройку конструкцией, которая изначально мешает и давит, не хочет сдвигаться. И все они, со своими усилиями, со своим протестом, надрывом, лишь окружают эту недвижную, сваренную из двутавров конструкцию. Он чувствовал эти двутавры, проложенные сквозь собственный, воспаленный, в озарениях и прозрении разум.
— Давайте спокойно пройдем еще раз по контурам «альфа» и «бета», попробуем добиться синхронности. — Он чувствовал, что страшно устал. Что и все остальные устали. Потеряно чувство нормы, чувство здравого смысла. Все примирились с хаосом, действуют в нем, как в мучительной неизбежной среде. Действуют ему вопреки. Потому что станция все равно должна быть построена. Блок должен быть пущен. Энергия пойдет в провода. — Давайте еще раз спокойно…
Он чувствовал стройку позвоночником, спинным мозгом. Безликая, неуправляемая, непознанная, она росла, сотрясала землю, ворочала в ней бетонными корневищами. Выдирала с хрустом металлический корень, била им, как хвостом. Громадная, стоглавая, в башнях, в дымах, мерцала глазищами, вспыхивала урановой пастью, лязгала гигантскими лапами. Ползала, давила, выпахивала черные котлованы, срезала блестящими фрезами поля и леса, оставляла на месте городов черные взрывы.
Это было как бред и кончилось. Он прогнал наваждение. И, спасаясь, отстраняясь от этого, вдруг подумал: в сущности, не так уж все плохо. Даже вовсе не плохо. А если подумать — отлично. Замминистра, усталый старик, уходит в небытие. И, по сведениям сразу из нескольких точек, все подтверждают одно: Дронов после пуска второго блока будет взят наверх, на вакансию. А место Дронова уготовано ему, Горностаеву. И он вполне его заслужил: управляется с делом, знает его и любит, умный, гибкий, знающий.
В сущности, все отлично, все славно. Сегодня после работы, после вечернего обхода станции, он собирает у себя гостей, в своем холостяцком доме. Все тех же сталкивающихся лбами строителей. Забыв о распрях, усядутся в его уютном коттедже у камина, поведут неспешные разговоры о чем угодно, только не об этом железе. Он сделает им сюрприз — покажет слайды, «сокровенные», как он их называет, из заветной коробки. И, конечно, будет женщина, милая, добрая, ну пусть не жена, не невеста, а та, с которой хорошо остаться вдвоем после этой кромешной работы. Вот она накрывает на стол, ставит тарелки и рюмки, и он от камина, из низкого кресла смотрит, как блестит в ее пальцах хрусталь, как белеют ее быстрые руки. И это умиляет его, волнует.
Очнулся от крика и гама. Накипелов, разгневанный, шевеля под свитером буграми мускулов, грохотал:
— Я не согласен! Не буду делать! Не пущу никого в отсек! Вы мне аварию планируете! Чернобыль планируете!
— Нет, пустите! — наскакивал на него Лазарев. — В какой отсек к вам ни придешь, у вас везде монтажник висит. И за Чернобыль прошу не прятаться!
— Да вы в чертежи загляните! Вы размеры читать умеете? — тонко перекрикивал их Менько. — Вы мне лепите дырку на дырку!
— Не стану я делать! Никого не пущу в отсек! Аварию не позволю планировать!
— Тихо! — ударил кулаком по столу Дронов. Вскочил яростный, бешено скаля зубы, дергая черными ненавидящими глазами. — Вы когда-нибудь научитесь грамотно разбираться в проблемах? Или вечно будете превращать штаб в восточный базар! Вы торгуете изюмом или строите атомную станцию? Вы станете выполнять приказания штаба или будете имитировать деятельность? Я хочу понять, с чем мы имеем дело — с некомпетентностью или прямым саботажем? Вы, Накипелов, как вы смеете срывать выполнение графика, сознательно закупоривая отсек, разрывая технологические цепи? Я вас спрашиваю, Накипелов!
— Я действую по вашему вчерашнему указанию, Валентин Александрович, — ошарашенный натиском, оправдывался Накипелов. — Не хочу допустить возможных аварий.
— Вздор! Делайте, что вам приказывают. Время течет между пальцев, а мы говорим, говорим, говорим!
— Я подчиняюсь, Валентин Александрович! Подчиняюсь вам как руководителю стройки!
Дронов упал на стул, задыхаясь. Ненавидел себя за эту вспышку гнева, затравленно озирался. Все понимали его. Делали вид, что ничего не случилось. Тихо переговаривались.
— Пройдем еще раз по контуру «альфа». — Горностаев снова принял бразды правления.
Глава четвертая
Тем временем далеко от стройки, медленно к ней приближаясь, по пустынной и скользкой дороге, мимо редких деревень, занесенных снегом опушек ехал автобус. Осторожно вилял на льду.
В автобусе было нелюдно. Несколько деревенских женщин, немолодых, укутанных в стеганые пальтушки, с кошелками, в одинаковых грубошерстных платках, из которых торчали раскрасневшиеся длинные носы и выглядывали сонные глазки.
На отдельном сиденье, нахохлившись, в напряженной неудобной позе сидел человек, каких в народе называют «дурачок» или «убогий». Молодое, оплывшее, бело-румяное, безбородое лицо. Подслеповатые водянистые глаза. Вывороченные влажные губы. На нем была кожаная добротная ушанка. Шнурок развязался, и одно кожаное ухо отвисло. Ноги в новых ботах стояли носками внутрь. Из-под коротких брюк торчали сморщенные носки. Он сидел, вцепившись в кулек. Перебирал его на коленях непрерывно щупающими пальцами.
Через сиденье от него разместился другой пассажир, неопределенного возраста, то ли пожилой, с сохраненным сквозь морщины и отеки на нечистом, несвежем лице выражением молодости, то ли молодой, но уж очень истасканный, испитой, помятый. На голове у него красовалась общипанная кроличья шапка. Торчали длинные немытые волосы. Верхняя губа плохо закрывалась, обнажая два больших желтоватых резца, что делало его похожим на белку, на мышь или зайца. Шея была обмотана красным шарфом. Под расстегнутым пальто виднелся костюм-тройка, когда-то дорогой, но теперь засаленный и обвисший. На ногах полусапожки, прежде модные, с пряжками, но давно не чищенные и избитые. Руки большие, с черными ногтями, в ссадинах и царапинах — водились с инструментом. Он ухмылялся, косился в сторону соседа с кульком. На его впавших небритых щеках горел винный румянец.
























