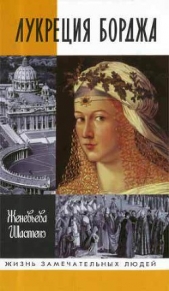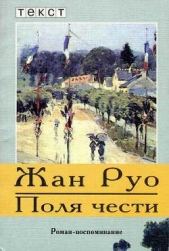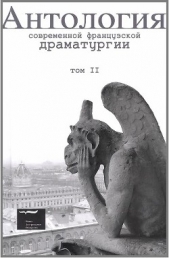Утренняя звезда
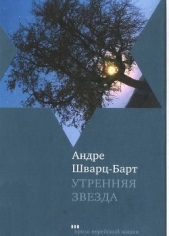
Утренняя звезда читать книгу онлайн
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Порой, когда ему случалось пребывать в правоверном умонастроении, родитель открывал на верстаке Хаима молитвенник и заставлял сына читать, подначивая его по ходу чтения и без конца перебивая. Он рассказывал разные истории из жизни праведников или запевал какой-нибудь гимн, обволакивая сына тяжелым взглядом своих желтых с кровавыми прожилками глаз и давая понять, что приглашает его душою приобщиться к звучащей мелодии. Напевая, Мендл едва разжимал губы, изо рта у него слышался почти что шепот, этакое едва различимое мелодичное пошипливание, но именно так ему удавалось воспроизводить почти все известные в Подгорце мотивы, бытовавшие там с тех пор, как пришли туда первые пейсатые евреи, то были мелодии, по большей части не нуждавшиеся в словах, когда можно обойтись любыми отрывочными восклицаниями вроде: «Ой-йой-йой, наш отец! Ой-йой-йой, Бог живой! Ой, живой, ой, живой!»
Затем толстяк принимался за псалмы, за синагогальные гимны, без устали нанизывая их на единую нить и не переставая отбивать такт слоновьей ножищей на плотно убитом земляном полу. Там фигурировали и Божественный престол, и Роза Иакова, и Агнец со связанными ножками, и много чего еще. Но вот наступала минута, когда душа наконец собиралась в единый ком и голос Мендла взлетал ввысь, выпевая какой-нибудь уж совсем бессмысленный мотив, к примеру простой нигун, весь слагавшийся из подпрыгиваний, вскидываний ног и рук, сопровождавшихся бессмысленными звукоподражаниями, подслушанными у какой-нибудь беснующейся на вольном лугу козы. Именно такие лишенные глубины мотивчики с коротенькими подскоками звука приводили мальчика в полный восторг. В них Хаим-Лебке ощущал источник вечного мелодического обновления. Игра мелких музыкальных перескоков длилась целые часы, они звучали вроде бы так же, но складывались во все новые и новые сочетания. И вдруг какой-то незамысловатый пассаж, зазвучав громче остальных, увлекал за собою Хаима-Лебке куда-то ввысь. Тогда, взлетев над самыми высокими деревьями, душа ребенка озирала Подгорец с его синагогой и церковью, с домом, где все они обучались Закону, с людьми и с бесенятами разных мастей, из коих одних было видно, а других нет, но поголовно сговорившимися вредить людям, и свободно парила над знаменами, речами, нескончаемыми распрями (не говоря уже о громадной тени немецкого орла, который летал вокруг всего этого, неустанно сужая круги, сея вокруг все больше тревоги, потому что слухи о войне ширились, заполняя повседневный обиход, — душа взлетала даже над ней). И внезапно Хаим ощущал себя совсем рядом с божественным Престолом, из глубины его естества рвался смех, разлетаясь над зелеными пастбищами, рот наполнялся незнакомым вкусом оливок, а голос его отца все высился, поднимаясь над непорочной завесой шабата, и плыл в сумраке хижины, заполняя ее всю своим гулом:
После отца, существа, в его глазах превосходившего все на свете, чьи падения и взлеты должны были очаровывать, пожалуй, даже ангелов (ибо сказано: «Там, где пребывают раскаявшиеся грешники, даже праведникам местечка не найдется»), и после матери, не боявшейся (при том условии, конечно, что в доме имеется все необходимое для следующего шабата) ни Бога, ни черта, — одним словом, после родителей больше всех на свете Хаима-Лебке восхищал его старший брат Шломо-Арье-Меир, Шломо-принц, или просто Принц.
Будучи по профессии кровельщиком, мастером по укладке черепицы, Шломо ходил по крышам с той непринужденностью, с какой обычный еврей идет по улице; можно сказать даже, что он шествовал, как всякий поляк, топающий в сапогах по своей хорошо унавоженной земле. А когда он, высокий, прямой и уверенный в себе, спускался к людям, он шел, напружинив плечи, словно собирался спихнуть с дороги какую-нибудь преграду, однако его наивно распахнутые глаза оглядывали встречных очень приветливо. Больше всего Шломо напоминал смотрящую вперед ночную птицу: зрачки расширены, рот полуоткрыт и напряжен, как у всякого, ищущего тропу в сумерках или в неясной ситуации, когда вокруг не все понятно, но путник твердо намерен дойти до конца. Не всегда Шломо вел себя так мирно: в тринадцать лет, когда в день празднования собственной бар мицвы он перед синагогой плюнул себе под ноги, немало правоверных восприняли это как оскорбление, и дело окончилось градом колотушек и поркой. В такие минуты Шломо выходил из себя, внезапно уподобляясь тем жеребцам, которых местные крестьяне во время сельских праздников стравливали друг с другом, тогда разъяренные животные, вытянув шеи, бросались в схватку, вставая на дыбы и молотя воздух передними копытами. Вот и Шломо: когда он становился таким, даже христианам было его не удержать.
Из-за какого-нибудь пустяка вроде ругательства, на какие уже который век никто не обращал внимания и шел дальше, Шломо с пеной у рта бросался в бой. Парню едва исполнилось пятнадцать, как его увидели на демонстрации среди тех, кто шел с красными флагами. Люди в синих мундирах, с дубинками в руках, бросились на митингующих, толпа рассеялась, а Шломо остался: подобрав с земли брошенный кем-то флаг, он начал кружиться, крутя древко перед собой и выкрикивая на идише довольно странные слова: «Я — еврей, а еврей вот так просто не бежит, вам понятно?» Его очень правильно поняли и продержали полгода в варшавской тюрьме Павяк. Там его поведение никому не понравилось. Партийные товарищи, к примеру, считали, что он должен был кричать: «Я — большевик!» Даже когда он возвращался с допросов с поломанными ребрами и выбитыми зубами, его тюремные соратники продолжали возмущаться. Почему он снова не кричит: «Я — большевик!»? Шломо это так надоело, что он связался с «врагом рабочего класса», с социалистом из Бунда, который ему объяснил, с каким чрезвычайным уважением товарищ Сталин относится к евреям. Ко времени своего возвращения в Подгорец Шломо уже был исключен из партии большевиков; его ожидал новый град ударов, которые предстояло и нанести, и получить; попутно он побывал на собраниях всех политических групп и всех кружков: литературных, философских, религиозных. И довел дело до того, что в один из дней христианской Пасхи его зашибли почитай что насмерть.
Вот уже сотни лет процессия из крестьян округи в Страстную пятницу ходила по улицам за высоченным трехметровым распятым Христом с зияющими кровоточащими ранами. И для них это не было чем-то давно прошедшим: в их представлении именно подгорецкие евреи в этот день исхлестали плетьми и распяли на кресте их Бога, они, они самые увенчали его главу терновым венцом. В такой день все еврейские дома запирались наглухо. На улице не было видно ни модернистов, ни правоверных, ни сторонников отъезда в Москву или Иерусалим, ни бундовцев, ни необундовцев, ни членов левой, правой или центристской фракции «Поалей Цион», ни членов «Ассоциации подгорецких рабочих по изучению Мишны». Так вот, именно этот день Шломо избрал, чтобы выяснить свои отношения с Папой Римским. Он не желает прятаться, кричал молодой человек, ему надо свободно ходить по улице, ведь он никого не прибивал ни к какому кресту! А крестный ход между тем уже вступал в пределы Подгорца. Пришлось двум евреям-биндюжникам второпях прибить его до потери сознания и спрятать в первом подвернувшемся доме.
Некоторое время спустя Шломо создал свою собственную революционную партию, призванную объединить трудящихся всех стран, конфессий, политических воззрений и моральных устоев. Они прошествовали от края до края площади в рыночный день. Шломо нес огромный красный флаг, а за ним шагали трое бледных молодых людей, явно лишь несколько дней назад расставшихся со священными текстами: об этом свидетельствовали их глаза, еще затуманенные былыми мессианскими мечтаниями. Пока они так шагали, демонстрацию сопровождал единодушный смех толпы. Пожалуй, впервые за последние пять или шесть сотен лет польские евреи и христиане были охвачены одним и тем же чувством. Эта последняя выходка положила конец революционной карьере Шломо. Он сделался печален, его постиг странный упадок сил, и даже Хаимова флейта не разглаживала его наморщенного лба. По вечерам он куда-то таинственно исчезал с топором на плече и возвращался только под утро. Сначала это всех тревожило, потом близкие успокоились, потому что в его облике теперь чувствовалась внутренняя озаренность, которая уже не покинет юношу до конца его жизни, до того вечернего голубоватого сумрака на дне ущелья, где он примет смерть у могильной траншеи.