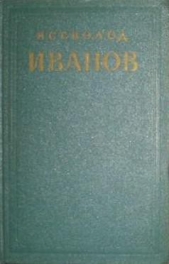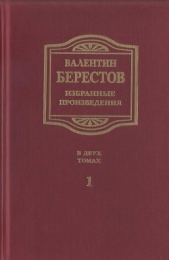Избранные произведения. Том 1
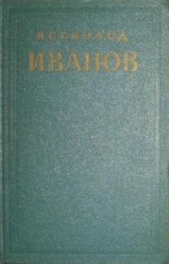
Избранные произведения. Том 1 читать книгу онлайн
В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.
В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».
Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итальянец принес какой-то антикварный каталог, где была напечатана фотография часов, и сказал:
— Часы оцениваются от десяти до пятнадцати тысяч долларов. Это единственные по редкости часы в мире.
— Ну, положим, не единственные, — сказал я, вглядываясь в часы: оправа их как бы ссохлась, потрескалась, а хрусталь чуть треснул сбоку. Это был второй экземпляр — и мой, несомненно, лучше. — Есть еще экземпляр. И вашему экземпляру далеко до того.
— Мне крайне интересно знать, у кого имеется второй экземпляр. Нельзя ли посмотреть? Если нельзя, то не скажете ли вы этому человеку, что часы — ужасающая редкость и что их надо беречь.
— Хорошо, я скажу.
И мы расстались.
Хотя я был очень рад и горд, что подарил замечательную вещь Алексею Максимовичу, а он угадал ее художественную ценность, меня смущало, что Алексей Максимович возьмет да вынет механизм, превратит его в брошки и раздарит. И останется тогда толстый итальянец Пинчиана единственным владетелем редкостных часов. Написать Алексею Максимовичу откровенно обо всем. Но Рим рядом! Поедет туда Макс, и вместе с историей часов узнает от синьора Пинчиана их цену. Допустим, что синьор Пинчиана хвастается и часы стоят не десять тысяч долларов. Но и тогда получается неудобно… Словом, как я ни крутился, как я ни пробовал найти какой-нибудь брод через бурные и затруднительные обстоятельства, ничего я не нашел, и пришлось мне махнуть рукой и плыть по течению реки времени.
Забыл я про индийские часы. Раза два вспомнил, когда стали бранить «Похождения факира» — за формализм, да однажды, когда получил трогательное по наивности письмо от какого-то студента, который спрашивал меня, зачем я стремился в Индию, когда это в культурном отношении отсталая колониальная страна.
— Где-то теперь эти индийские часы? — сказал я жене.
— Какие часы? Не помню, — ответила жена.
Прошло лет двенадцать. На Малой Никитской, в квартире Алексея Максимовича, вспоминая его, вспомнили мы и о Сорренто и нашем гощении там. Вспомнил я и про индийские часы и, смеясь, рассказывал о них. Один из близких к Алексею Максимовичу сказал, что, сколько он знает, среди вещей Алексея Максимовича таких часов нет. А что касается синьора Пинчиана, то магазин его известен в Риме, и не столько часами, сколько вздорной болтовней самого синьора. Дела у него в те годы шли плохо, и если б часы действительно стоили так много, он не замедлил бы продать их путешественникам-американцам, которые как раз в эти годы скупали в Италии всяческие редкости.
— Нету! Значит, обратил механизм в брошки и раздарил, — сказал я.
— И брошек таких он никому не дарил!
Прошло еще несколько месяцев. Мы опять увиделись, опять вспомнили Италию, крепкие февральские вечери, иней на апельсиновых деревьях, прикрытых от мороза рогожами, темный, словно бы мохнатый, ночью, как овчина, залив, вечера, шутки, игру в «подкидного дурака», чтение, возвращение из дома в отель по узкой улице, желание Алексея Максимовича каждый раз проводить нас; вспоминали сад, рыбную ловлю, художников, делавших этюды, покойного фантаста Ракитского, вспомнили и дюка Серра-Каприола, и пропавшие письма Пушкина…
— А знаете, — сказал вдруг близкий. — Вы как-то, Всеволод Вячеславович, рассказывали нам об индийских часах. Они нашлись! Они лежали в спальне Алексея Максимовича, в тумбочке, возле кровати, и целехоньки. Никакого механизма он из них не вынимал. Хотите взглянуть?
И вот я увидел эти часы! Светлокоричневая, украшенная серебряными точками старенькая «луковица» лежала у меня в руке. Боже мой, сколько прошло времени, сколько событий, людей, прекрасных книг! Как мы состарились, как я, вернее, состарился и как эти часы стали другими. И не колышется уже Индийский океан, и уже не мерещится Синд, Раджпутана, Декан, желтогрудые фигуры богов, охота на тигров, и уже давно отложены в сторону «Похождения факира», и забыт наивный павлодарский мальчик, стремившийся в далекую Индию… Да и мне ли написано это письмо, и над ним ли плакал я…
«Дорогой и замечательный „Сиволод“ -
„Похождения факира“ прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот — не преувеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем, и вот именно такие беседы о воспитательном значении „трудной жизни“, такое умение рассказать о ней, усмехаясь победительно, — нужно и высоко ценно для людей нашей страны.
Обнимаю, крепко жму руку, милый мой товарищ!
P. S. Кое-где слова надобно переставить, и есть неясные фразы. А. П.»
…Я держал в руках часы и думал. Неужели это они? Выцветшие, с тусклым стеклом! И я раскрыл их.
И вдруг сверкнул, струясь, бронзовый механизм, украшенный узорами. Лучи света упали на него, и все заиграло!
И вспомнились голубые глаза Горького, сверкнувшие, когда он увидал этот механизм, эту старинную замечательную работу далеких людей.
Сверкнули глаза его! Сердце сжалось. И волны счастья охватили меня сейчас такие, как и тогда, когда я видел его. Да, много времени, событий, книг миновало и прошло мимо меня. Но какое счастье, какая радость, что среди этих событий, людей, дней мне удалось видеть его, чьи глаза и ум сверкают над нами и поныне сквозь все события, людей, сквозь все дни, освещая их своим творческим светом!..
«Что такое речь вообще?»
Горький обладал своеобразным даром юмора. Я говорю не о его книгах, а о мягком и простодушном юморе, который вдруг загорался в его словах при разговоре с вами. Обращался он с вами, как всегда, несколько насупившись, но именно в такие минуты можно было полностью понять счастье и веселье, наполнявшее Алексея Максимовича. В глазах его блистала безмятежная ласковость, собой он был тогда красив и величав; вы чувствовали все могучее обаяние настоящего художника слова.
1929 год. Горький вернулся из большой поездки по стране нашей. Вы видите: он опьянен просторами распаханных и засеянных полей, огромным размахом работ в совхозе «Гигант», большими новыми заводами, а особенно — новыми, необыкновенными людьми, множеством энергичных, смелых людей. Он весь погружен в острое чувство любви к родине, он весь в ее счастье, в се работе; грудь его жадно дышит этим счастьем, этим душистым и чистым воздухом родной страны…
Идет какое-то заседание у него в кабинете. Писатели среди других вопросов рассуждают о чьем-то юбилее. Заговорили о речах, которые надо произнести, и вдруг кто-то спросил: «Устно или письменно говорить речь?», и другой, воспользовавшись случаем, решив обобщить вопрос и получить теоретические указания от Горького, сказал: «И вообще, что же такое речь?»
Горький, бесшумно барабаня пальцами по столу, прокашлялся, глухие звуки его кашля постепенно затихали, переходя в какое-то мурлыканье, и он с веселой усмешкой сказал:
— Ну, право, невозможно… Честное слово, невозможно…
И, обращаясь к литератору, что, дескать, невозможно удержаться от рассказа, а не от слушания его вздорных вопросов, сказал:
— Я, видите ли, недавно удостоился слышать такую речь, после которой вполне понял искусство оратора и смысл речи вообще.
И тут он описал нам одну небольшую картинку, полную отличного пафоса нашей жизни, а вместе с тем не лишенную и юмора. Я не мог тогда записать текстуально рассказ, поэтому попробую передать его своими словами.
Жаркий, душный день где-то под Ростовом. Степь недвижно спит. Только поезд, окруженный облаками пыли, неистово мчится вперед. Встревоженно и растерянно погружаются в облака пыли встречные поля, травы по обеим сторонам насыпи. А поезд, забывшись, захваченный своим движением, неудержимо, счастливо хохочет.
И вдруг с разбегу он останавливается возле какой-то станции, сбрасывает с себя плащ пыли — и выходит, чистый, сверкающий металлом, полированным деревом, краской. На станции — река народу, и среди этой реки, как серебряные лодочки, трубы оркестра. А над станцией, будто специально умытые для встречи, вытянувшись, руки по швам, стоят опрятные, высокие тополя в серо-зеленых шинелях — почетный караул.