Лицом к лицу
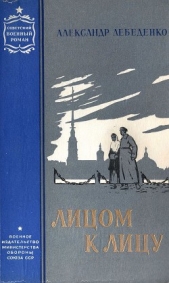
Лицом к лицу читать книгу онлайн
Много ярких, впечатляющих романов и повестей написано о первых днях Октябрьской революции. Темой замечательных произведений стали годы гражданской войны. Писатель показывает восемнадцатый год, когда по всему простору бывшей царской России шла то открытая, то приглушенная борьба двух начал, которая, в конце концов, вылилась в гражданскую войну.Еще ничего не слышно о Юдениче и Деникине. Еще не начал свой кровавый поход Колчак. Еще только по окраинам идут первые схватки белых с красными. Но все накалено, все пропитано ненавистью. В каждом доме, в каждой семье идут споры, зреют силы будущих красных и белых армий. Страна находится в ожидании взрыва. И этот взрыв не заставил себя ждать.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но легче было проповедовать immaculata conceptio в Африке и Китае, чем в революционном Петрограде. Варшава Пилсудского сулила новый расцвет ордену, и воинствующие католики покинули город на Неве. Дом опустел и был разыскан царским капитаном Аркадием Синьковым, рыскавшим по всему городу в стремлении освободиться от опеки командования запасного дивизиона.
Батарейцы наглухо заперли холодную, как погреб, домовую церковь, верно хранившую сумрак и запахи всех божьих домов, поставили в аудиториях нары и койки, опростали и заняли под лошадей все сараи и еще в старом епископском парке разбили коновязи, приделав дощатые навесы к высокой каменной ограде.
В перемычке, делившей двор пополам и разбитой по числу студентов на двадцать четыре кельи, поселились каптенармусы, старшина, фейерверкеры, писаря и те из батарейцев, кто был ловчее и более склонен к уединению.
Прежде в каждой келье стояла одна железная кровать, стол для занятий, аскетический табурет. Большое белое распятие склонялось над кельей из восточного угла. По странной склонности ума или лености предыдущие постояльцы — польские легионеры — превратили кельи в уборные. Батарейцы убрали горы нечистот и заделали глазки в дверях, служившие академическому начальству для наблюдения, дабы уберечь студентов от рукоблудия и чтения современных книг, носительниц мирских соблазнов. Теперь в духоте от хорошо натопленных печей ютились батарейцы по трое и четверо.
Епископская квартира в центре здания и правое крыло были заперты. Солидные сургучные печати в большом количестве повисли на необыкновенно высоких дверях. Шел слух, что комнаты до потолка забиты мебелью, платьем, коврами, велосипедами сбежавших в Речь Посполиту членов польской духовной колонии. Высокий пробощ в черной сутане до полу, как подбитая летучая мышь, носился в сумерках по коридору со связкой ключей и с лицом заложника и кандидата в мученики. Он был изысканно вежлив, не уставал держать два пальца у полей котелка, но красноармейцы легко угадывали, как клокочет гнев в этом прямом, как флагшток, человеке.
Искреннее восхищение красноармейцев вызвали подвалы. Они тянулись от улицы до улицы под аудиториями, квартирами, кельями и церквушкой и от цементного пола до сводчатого потолка были наполнены ящиками выпитых бутылок всех марок — от скромного кагора до вдовы Клико.
Застарелый винный дух властно носился над этими памятниками коллективных оргий и единоличных меланхолических возлияний.
— Мильен бутылок, — определил с размаху Федоров.
— А мы-то, — уныло вторил ему Серега Коротков. — Что мы, тьфу, пьем на пасху да на святки. Вот это герои!
Винный дух щекотал ноздри, и батарейцы верили, что есть в подвалах тайники с запасами не распитого ксендзами и легионерами вина. Ночами с огарками рыскали меж ящиков, гремели стеклом, принюхивались и выстукивали полы и стены. Алексей поставил караул у входа в подвал и сам проверял, чтобы часовые не принимали участия в бесплодных поисках.
Первую от входа келью заняли Савченко и Фертов. Здесь сразу же организовался штаб по борьбе с охранными печатями. Страх перед Алексеем и перед Советом мешал действовать открыто. Но ночами они забирались на чердаки, крышами проходили на жилую лестницу правого крыла. Раздобыли пилку, клещи и долото. Пробощ в белых кальсонах под крылаткой совершал ночные обходы, а по утрам, с лупой в руке, осматривал печати. Он надоедал Синькову и Черных. «Жолнежи гвоздями портят замки и царапают печати…»
Теплее, светлее и грязнее всего было в комнате Коротковых. Дородные парни в овчинных тулупах, в папахах и валенках ворочались в тесной келье, как верблюды в клетке уездного цирка. Они набросали на койки и на пол связки казенных кожухов, одеял, тряпья. Под столом, прикрытый фанерным листом, стоял бочонок постного масла. Под койкой Сереги в сером мешке хранился расходный сахар. Початый каравай для опоздавших не уходил со стола. От него щипали и отрезали почетные коротковские гости. В дни выдач стол придвигался к двери. Из-за него, как из-за прилавка, Коротковы отпускали бойцам, сбившимся в коридоре, порции хлеба, махорки, сахара и соли. За инструкторскими пайками приходили жены и матери, постепенно привыкавшие к теплым платкам и демократическим плетеным корзинкам. Командирский паек отвозил на квартиру Синькова сам Игнат Коротков. Поставив в угол мешок с крупами, сахаром, мукой, он пускался в беседы с командиром. Немногословные и настойчивые, как удары океанской волны, они были с обеих сторон насторожены в духе деревенской вековой дипломатии, где смысл ясен обоим и слово, как музыка, только облекает настроение. Не застав Синькова, он сдавал паек по записке Куделе, топтался в коридоре и на кухне, просил воды и, улучив момент, мелко для своей мохнатой огромности хихикал и щипал девушку. Коротков предложил и Алексею завозить паек на дом. Черных на ходу кивнул головой, и Настя на другой вечер спросила брата, почему это стали так много выдавать муки и сахара. Может быть, это потому, что он теперь комиссар? Для наглядности она показала ему увесистый мешок. Алексей похлопал ее по плечу и сказал: «Ну, будем есть пироги», — но тут же помрачнел и выругался, потому что до сознания его дошло, что все это коротковские штучки, что это — против всех законов, что Коротков и Синькову и другим командирам по холуйской привычке, наверное, отпускает лишку. Это значит, что его, комиссара, могут упрекнуть в недобросовестности. Он предложил Синькову сменить каптенармусов. Но Аркадий резко заявил, что Коротковы — опытные ребята, он за них ручается, и если Алексей что-нибудь заметил, то следует устроить ревизию. Мысль о ревизии пришлась Алексею по душе. Как это он не додумался сам? Альфред говорил ему, что он устраивает в школах ревизии очень часто — «иначе примазавшееся жулье унесет окна и двери», — но посоветовал ему в случае ревизии вызывать представителя от штаба и от Совета.
Ревизия обнаружила у Коротковых ничтожные нехватки в фунтах и золотниках, устранявшие мысль о хищениях, и Коротковы высоко подняли голову. Они подняли ее еще выше, когда у фуражира, которого выдвинул сам Алексей, недосчитались тридцати пудов овса и воза сена. Парень клялся, что он дает конюхам без счета, потому что у него нет фуражных весов, но Алексей застыл в смертельной обиде. Его надул приглянувшийся ему голубоглазый парень! Он подкупал ясностью глаз, тихостью и тем, что не походил ни на одного известного ему фуражира старой армии. Алексей отстранил фуражира приказом, и дело должно было перейти в только что образованный военный трибунал.
Чтобы показать умение признавать свои ошибки, Алексей согласился назначить фуражиром Серегу Короткова.
Большею частью командир и комиссар приезжали на батарею вместе. Синьков еще в воротах кричал что-нибудь дневальному или подвернувшемуся красноармейцу, выскакивал из пролетки на ходу и уносился в конюшни, к Коротковым, в помещения, приспособленные под цейхгауз, в прачечную, под которую освободили часть подвала. Его голос доносился из глухих коридоров, легкие его шаги, быстрые и уверенные, заставляли скрипеть доски старых полов. Его всегда сопровождала свита красноармейцев, он вел себя с ними фамильярно и, казалось, дружески, но мало-помалу приобретал вновь командирский тон.
У него не было постоянного места, комнаты, кабинета, чаще всего он сидел у каптенармусов. Писарь Горев, тупой и неподвижный, одолеваемый застарелой болезнью, ютился около кухни, потому что здесь было тепло. Канцелярия его помещалась в промасленном полотняном портфеле, к которому он приспособил обыкновенный висячий замок. Портфель, в свою очередь, помещался в сундучке вместе с личными вещами писаря. Синьков носил бумаги во всех тринадцати карманах френча и бриджей. Когда он разыскивал какую-нибудь расписку, казалось, он готовится раздеться до белья. Сверчков как-то сказал ему раздражительно, что командиру и комиссару следует иметь кабинет и канцелярию. Кабинет и канцелярия были для Алексея словами из лексикона разрушаемого мира. У Алексея были такие же тринадцать карманов и не меньше подвижности, и он, ничего не сказав Сверчкову, пустился в очередное плаванье по коридорам и проходам бывшей Академии, в которой пахло теперь лошадиным потом и квашеной капустой. Порослев, посетив батарею и не найдя угла, где можно поговорить наедине с военкомом, обозвал все это партизанщиной. Это словечко на время заменило ему все выражения неодобрения. Алексей вспомнил о личной канцелярии и улыбнулся.


























