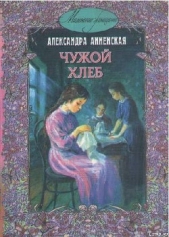Запоздалый суд (Повести и рассказы)

Запоздалый суд (Повести и рассказы) читать книгу онлайн
В настоящий сборник известного чувашского прозаика А. Емельянова вошли две новые повести: «Не ради славы», «Мои счастливые дни» — и рассказы.
В повестях и рассказах автор рисует жизнь современного чувашского села, воссоздает яркие характеры тружеников сельского хозяйства, поднимает острые морально-этические проблемы.
Отличительные черты творчества А. Емельянова — чувство современности, глубокое знание и понимание человеческих характеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот Геннадий Владимирович меня слушает, а я рапортую: собрания, заседания парткома, такие-то и такие-то вопросы, заслушивали пропагандистов, работают политкружки, в кабырском клубе пытаемся регулярно, каждую субботу, проводить лекции, уже прочитано четыре, на будущей неделе состоится пятая — о Пушкине, читает учительница нашей школы…
— Это что, к юбилею или так просто?
Вопрос застает меня врасплох: я как-то и не думал об этом. И я лихорадочно вспоминаю: не читал ли я что в последних газетах о Пушкине, не мелькал ли его портрет? Кажется, не мелькал, и я говорю:
— Так просто…
— Ну что же, не плохо, не плохо. К юбилею и без вашей лекции много будет говориться о Пушкине, а вот так напомнить, без юбилея, это хорошо. Ну, что еще у тебя новенького?
Я бы не хотел говорить Владимирову о комплексном плане работы парткома на будущий год, который я уже почти подготовил, но мы еще не обсудили его. В этом плане я наметил, по каким вопросам должны будут собраться и сессии сельского Совета, и профсоюзные, и комсомольские собрания, какие основные вопросы должны будут обсуждаться на заседании парткома, и прочее, и прочее. Все я расписал, не забыл ни одну деревню, ни одну бригаду, и план казался мне порой прекрасным произведением, достойным того, чтобы его напечатать типографским способом и развесить во всех деревнях колхоза «Серп», в кабырском клубе, не говоря уже о правлении. И поскольку такие мои мечты, то и особенное волнение. И вот когда Владимиров спросил про «новенькое», я само собой в первую очередь об этих планах и подумал. Однако ведь не обсудили еще! А вдруг как он разнесет этот мой комплексный план? А если не разнесет?.. И так велико было искушение, что я, конечно, выложил ему свое «произведение», а пока он читал, я с бьющимся сердцем глядел на его лицо, стараясь угадать возможную оценку. Но лицо Владимирова было спокойным и даже как бы равнодушным и ничего хорошего не сулило. Впрочем, я приготовился и к худшему, и сидел в ожидании этого худшего, понуро повесив голову.
— Так, так, — сказал наконец Владимиров, — в принципе такой план работы может быть и не плох, а, Сандор Васильевич? Знать, что ты будешь делать завтра, это хорошо, это, я бы даже сказал, прекрасно. — Он помолчал, поглядел на меня прищурившись, словно что-то такое хотел увидеть во мне. — Но не мелочишься ли ты? Гляди, расписал и Совету, и профсоюзу, что делать в каждый месяц. Не обернется ли такая плотная опека напрасной показушной суетой?.. А вообще-то мне нравится, — вдруг говорит он. — Нравится, что ты вперед заглядываешь, какую-то перспективу намечаешь.
— Комиссар у нас пашет! — вставляет Бардасов, чтобы, наверное, меня выручить, потому что вид у меня — сам чувствую — довольно жалкий.
Но Владимиров вроде бы и не обращает на эти слова внимания, словно и не слышит. Он встает, молча ходит по кабинету, слегка сутулясь, и я как-то впервые ясно вижу, что это вовсе не молодой человек, как мне раньше казалось, что вот-вот подступит к нему время болезней, даст знать о себе и фронт, и эта нервная, беспокойная работа, и не всякий раз уже застанешь его в райкоме, а секретарша Света не скажет: «Геннадий Владимирович уехал по району», она скажет: «Саша, это ты? Знаешь, Геннадий Владимирович приболел…» И дай бог, чтобы это случилось не скоро, если это вообще неизбежно у людей.
— А вообще, ребята, мне у вас правится, — тихо и серьезно как-то говорит наконец Владимиров, поглядывая на нас с Бардасовым. — И порядок в колхозе вы наводите, и дела раскручиваете хорошие. И то, что вы оба такие молодые, мне тоже правится. Сколько вы еще успеете наворочать хороших дел за свою жизнь, моему скудному уму непостижимо. Будет что вспомнить на старости лет, а? Мне вот, старику, и вспомнить нечего, как подумаешь. Завидую я вам, честное слово завидую! Молодости вашей, здоровью, делам вашим, времени, в котором вы живете и еще долго-долго жить будете, детей наплодите, внуков дождетесь и будете вот сидеть на крылечке в валенках, на солнышко щуриться и вспоминать свои счастливые дни, вот эти самые, хотя они, может быть, и не кажутся вам такими. Но вспомните, вспомните меня, старика, вспомните! — И он рассмеялся, с каким-то едва заметным усилием рассмеялся, как будто подавляя в себе тихую печаль. — Пора мне, однако, братцы, и восвояси, целый день на колесах…
Мы принялись было с Бардасовым упрашивать его поужинать у нас, но Владимиров решительно стал одеваться, и вот уже из-под шапки глядели на нас по-прежнему молодые, ясные, голубые глаза.
— Ну, будьте здоровы!
Мы пошли провожать его на крыльцо, но Владимиров уже не обернулся: сел в машину, хлопнул дверцей и укатил. А мы постояли еще на крыльце, на морозе, словно в каком-то недоумении, и побрели обратно в правление, в котором уже, казалось, воцарилась сиротская тишина. Да и то сказать: было уже поздно — восьмой час…
14
Январь простоял снегопадный, с метелями, одна снежная буря догоняла другую, и снегу навалило по самые окна — штакетников не видать. Ни пройти, ни проехать по улице. Но словно еще мало: вьет и вьет метелица!.. Домик деда Левона и вовсе скрылся — одна труба торчит из сугроба. Но с домом Павла Ежова, по прозванию Чиреп, то есть Ежик, метелям никак не справиться: такой огромный дом у нашего колхозного шорника! Но и то к резным наличникам такая борода подвязана, что конец ее на крыше дедушки Левона лежит. Пышная такая борода, кудрявая!..
По такой погоде дома хорошо, в теплой избе, и чтобы идти никуда не надо было, ни по воду, ни по дрова. И вот я сижу с книжкой и наслаждаюсь спокойным воскресным житьем. Тепло. В трубе воет, но от того еще уютней в доме. С тех пор как привезли дров из колхоза и на мою долю, Дарья Семеновна топит от души.
«М. И. Калинин. О молодежи» называется моя книга. Скоро у нас в Кабыре комсомольское собрание, я собираюсь выступать. Не для того, чтобы цитатку-другую выдернуть из книги для своего будущего выступления, читаю я Калинина, а так, для общего развития по этому вопросу. Но, правда, я меньше читаю, чем смотрю на улицу, смотрю на разгулявшуюся метелицу. А борода у Чирепова дома все растет и растет, и даже вяз до первых суков завалило, ветки пообломало… Раньше, слышь, и вязовое лыко в дело шло, не только липовое. У нас дома в сенях кошель висит из вязового лыка — еще дед плел, а деда я не помню, так сколько же лет тому кошелю?..
Как поддает! — даже дом наш вздрагивает. Какие уж тут пешие прогулки по такой погоде. А что в поле делается, страшно и представить… Люся, наверное, сейчас в своей библиотеке одна сидит, печку топит, меня вспоминает и на погоду досадует: ни я к ней, ни она ко мне… А вот, постой, кто-то бредет по снегу. Бедный, бедный, куда тебя и какая нужда гонит? И всего-то залепило, лица не видать… Ну ничего, обратно покатит зато, ляжешь на сугроб и покатишься!.. Вон как его, бедного, кидает, вон как!.. И к нашим воротам прибивает чего-то. Неужели ко мне гость? Ну, так и есть, Графов тесть, он же Федор Петрович!..
И вот он стоит уже у меня, прижавшись к печке грудью и руками, а лицо мокрое, красное. Ругает погоду, словно она виновата, что не сиделось ему дома. И чего приперся? Завтра бы в партком пришел, ближе…
Кивает на книжку:
— К лекции своей готовишься? — И в его голосе чувствуется подковырка: вот, мол, я уже два раза прочитал свою, а ты все еще готовишься!..
— Да, — соглашаюсь я, чтобы закрыть «тему».
— Вообще говоря, некоторые считают партийную работу ненужной, — начинает он рассуждать, повернувшись к печке спиной. — Но я с этим в корне не согласен. Она незаметна, это правда, и часто переполнена текучкой, по, как говорится в пароде, семена слов всходят очень долго! Сам три года работал, знаю, прекрасно знаю, — замечает Федор Петрович и поджимает губы, как какая-нибудь скромница. — И другое взять…
— Как там молодые? — спрашиваю я, потому что уже надоели эти его рассуждения, да и он-то их ведет, как мне показалось, через силу, для приличия, как предисловие к чему-то. Так оно и оказалось.