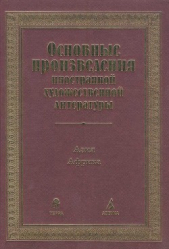Донбасс
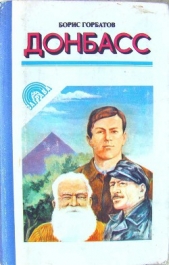
Донбасс читать книгу онлайн
Роман возвращает нас к 30-м годам, к зарождению стахановского движения, и концентрирует весь литературный опыт писателя: здесь публицистичность повествования сочетается с лиризмом, через лирического героя Сергея Бажанова автор ведет прямой разговор с героями романа и с читателем — о своем поколении, о судьбах Родины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уходят кони из шахты… Навсегда уходят. И что-то неощутимое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходит вместе с ними. Навсегда. Навеки веков.
— Удивительно, — сказал Прокоп Максимович, ероша рукой шерстку на костлявой спине Чайки. — Нет, прямо удивления достойно: как же это ты Чайку свою сберег, Бобыль, а?
Бубнов только застенчиво потупился.
— Ведь она, небось, лет десять в упряжке ходит? — снова спросил Лесняк.
— Ровно десять.
— Вот я и говорю: удивительно! — И старик с любопытством посмотрел на коногона: ему вспомнилась нашумевшая когда-то на шахте история Чайки-Сатаны. В той истории было три главных действующих лица: сама Чайка, коногон Савка Кугут да Бобыль.
Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на "Крутой Марии", лет пятнадцать тому назад. Вот как это случилось. "Ты кто? — строго спросил десятник Сиромаха, гроза новичков, заприметив на наряде рыжую домотканую свитку и лапти Никифора. — Ты кто-о?.." Бубнов растерялся. "Я-то? — пробормотал он. — А я… я — бобыль". Это было его официальное деревенское звание, он и сказал его. С тех пор иначе, как Бобылем, его уж и не звали.
Он и вправду был бобыль, может быть, самый горький, самый сирый на всей Брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю молодость свою прожил он в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней — хозяйских, казенных или обозных. Ничего так не желал Бобыль, как иметь своего коня. Будет конь, мечтал он, будут и хата, и хозяйство, и жена-молодуха, и дети. За безлошадного кто же пойдет? Чтоб добыть себе коня, он и поехал на шахты: земляк, бывалый человек, присоветовал.
Но на шахте Бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом: тут много не заработаешь. Бубнов был тихий, боязливый, законопослушный человек, он не возроптал. Что ж, знать, такая судьба — вечно ходить за чужими конями. Все-таки за зиму он справил себе хороший пиджак и сапоги, но шахту не полюбил и тосковал под землей. Весной он внезапно, никому слова не сказав, ушел с "Крутой Марии", а осенью, сконфуженный и еще более отощавший, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его.
Так и повелось: с теплым ветром уходил с шахты, с первым снегом возвращался.
На шахте Бобыля узнали и даже полюбили за голубиную кротость его души, за смирный характер, а всего более за то, что он бобыль, человек одинокий и несчастливый. Каждую осень, когда после отлучки появлялся он на шахте, загорелый, тощий, беспокойный, весь пропахший ветром, лесом и лошадиным потом, шахтеры спрашивали его шутя: "Ну как, Бобыль, женился?" Он научился отшучиваться: "Да нет! Все невесты достойной не найду, одни щербатые попадаются". "Эх ты, Бобыль, Бобыль!"
Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не появилась Чайка.
Чайку привезли на "Крутую Марию" в девятьсот тридцатом году. Тогда это была резвая, веселая трехлетка, такая веселая, что все, кто тут был при спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на нее. Она охотно пошла в клеть и, войдя, радостно заржала: "С солнышком прощается!" — жалостливо промолвила рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально припасенные для спуска лошадей. Но Чайка и не подозревала даже, что надолго, может быть, навсегда, прощается с дневным светом. Она простодушно ржала, потому что ей было всего три года, ей было весело, хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла.
Темень в шахте сначала только удивила ее, не испугала. Она знала, что бывает на свете ночь, и терпеливо ждала утра. Но ночь тянулась слишком долго, утро не приходило, и Чайка — бог весть, как ее звали тогда, — вдруг встревожилась, заметалась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших ее в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделали. Вытянув свою длинную, журавлиную шею, она беспрестанно ржала, нет, даже не ржала — вопила, и невозможно было спокойно слушать эти вопли — мольбы о воле и солнце…
А когда Чайку попытались поставить в упряжку, она и вовсе взбесилась. Словно догадывалась, что, раз покорившись, уже навсегда останется тут. Она отчаянно рвалась, лягалась, кусалась: одного коногона так ударила в грудь копытом, что тот только легонько охнув, упал замертво на рельсы, другого — прижала так, что еле оттащили…
— Сатана! Чисто Сатана! — чертыхались коногоны и один за другим стали открещиваться от проклятой кобылы. Тогда-то и приступился к ней Савка Кугут.
Савка поклялся, что или выучит Сатану, или запорет до смерти. "Ты Сатана, — похвалялся он, — ну, а я, брат, сам антихрист!"
Темная слава гуляла по шахте о Савке Кугуте. Никто толком не знал, кто он и откуда родом. Одни врали, что он из цыган, другие — что из донских казаков, третьи уверяли, будто он сын каторжника-конокрада; в былое время много беглых каторжников спасалось на донецких шахтах, благо паспортов тут не спрашивали. Сам Савка Кугут о себе ничего не говорил. Это был темноусый и чернобровый красавец, богатырь и щеголь, причем щегольство его было особого рода — босяцкое. Он гордо, хоть и небрежно, носил всякую пеструю, цветастую рвань — большей частью бабьи подарки, — носил так, словно то были шелка и бархат, но ничем в своем наряде не дорожил: мог и пропить и подарить любое. Он вообще ничем на свете не дорожил.
Его без памяти любили девчата с откатки и сортировки, и он снисходительно позволял им любить себя, сам же не любил никого и под пьяную руку частенько бивал своих подруг, холодно, молча, равнодушно-жестоко, как бил лошадей. Щедр он бывал только с товарищами и для приятеля мог последнюю копейку поставить ребром, но делал это не из дружбы, а из хвастовства. Бахвалиться он был горазд. Хвалился своей богатырской силищей, бесшабашностью, непокорностью начальству, а особенно тем, что он последний, настоящий коногон на шахте, не то, что нынешние: не коногоны — интеллигенты…
Он всегда таскал за собой свой коногонский кнут с коротким кнутовищем и длинной плетью. Кнут этот тоже был щегольской, особенный, весь в насечках и зарубках; пучок тоненьких, узорно нарезанных кожаных ремешков болтался у ручки, словно темляк на офицерской шашке.
Этот кнут и должен был привести Сатану к смирению.
Савка ретиво принялся за дело. Он пришел в конюшню в рабочую пору, когда лошадей там было мало. Обратав Сатану недоуздком и деловито поплевав на руки, Савка взял кнут и молча, даже не гикнув при этом, хлестнул кобылу. Сатана сначала недоуменно, а потом гневно заржала, рванулась, взвилась на дыбы, но Савка железной рукой держал повод и, не дав лошади опомниться, снова ожег ее кнутом.
Так началось укрощение Сатаны. Савка молча делал свое дело: отхлещет кобылу, потом притянет за повод, станет перед нею и долго смотрит — глаза в глаза — своими страшными, черными цыганскими очами, потом опять нещадно и молча бьет и, опять притянув к себе, стоит перед Сатаной, чтобы навсегда запомнила дрожащая от ужаса животина лицо, очи и кнут своего хозяина.
Бобыль из своего угла равнодушно следил за тем, как метались в полумраке конюшни человек и лошадь; их длинные, безобразные тени прыгали по стенам и ломались на полу; иногда тени сливались, и тогда казалось, что это гигантский всадник мчится на обезумевшей лошади, яростно размахивает кнутом, а все остается на месте, в конюшне, под землей… Бобыля нисколько не трогали вопли Чайки. Сызмальства привык он к тому, что скотину бьют, и бьют жестоко, вымещая на ней свое мужицкое горе и обиду. Бывало, и сам Бобыль в сердцах колотил худобу и после этого никогда не чувствовал ни раскаяния, ни смущения. Побьет, а потом покормит — вот и все расчеты.
Любил ли он лошадей? Он и сам не знал, да никогда и не думал об этом. Кони-то ведь были чужие. И он одобрительно наблюдал сейчас за тем, как старается бедняга Савка, и только об одном тревожился, чтобы другие кони в конюшне не смутились воплями Чайки, не стали бы беситься. А когда Савка Кугут вывел Сатану из конюшни и повел на рудничный двор приучать к упряжке, Бобыль и вовсе забыл о проклятой кобыле.