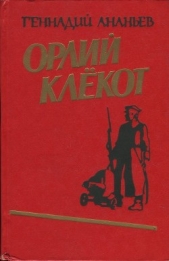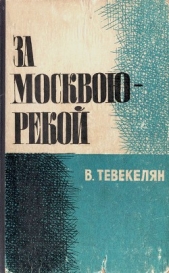Годы без войны. Том первый

Годы без войны. Том первый читать книгу онлайн
Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева «Годы без войны» — эпически многоплановое полотно народной жизни. В центре внимания автора — важные философские, нравственные и социальные вопросы, тесно связанные с жизнью нашего общества.
Перед нами центральные герои двух книг романа — полковник в отставке Коростелев, ветеран партии Сухогрудов и его сын Дементий, молодой нефтяник, приехавший в Сибирь. Перед читателем проходит галерея образов наших современников, их внутренний мир, отношение к работе показаны цельно и емко, навсегда запечатлеваясь в памяти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну что ты будешь ходить по магазинам?
— Схожу. — И он потянулся и пожал руку жены.
Когда подошла машина, поочередно подняв сыновей и подставив щеку теще, которая обычно целовала его на дорогу, Дементий вместе с Виталиной вышел за ворота.
— Может быть, сделаем так, — сказал он, привычно открывая дверцу «Волги» и поворачиваясь к Виталине. — Проводишь меня до аэропорта, а на обратном пути Игорек (Игорек — был шофер, чаще других приезжавший за Дементием) добросит тебя прямо до поликлиники?
Виталина согласилась, Дементий пропустил ее вперед себя в машину и оглянулся на тещу, сиротливо стоявшую на крыльце с внуками. Он снова подумал, что уезжает не вовремя и что нельзя оставлять семью в том состоянии, в каком он оставлял ее; он чувствовал, что нечто большее, чем только любовь, связывало его с семьей, и ему точно так же, как и Виталине (и в еще большей степени Анне Юрьевне), казалось, что он уезжал не на пять дней, а надолго, и оттого так тяжело было прощаться ему.
«Да что может случиться?» — чтобы успокоить себя, подумал он.
— Мужики! Держись тут без меня! — затем крикнул Сергею и Ростиславу, вскинув вверх руку и помахав ею. — Ну вот и поехали, — тихо добавил он, уже сидя рядом с Виталиной, в то время как машина, вырулив на середину улицы, набирала скорость.
До аэропорта он ехал молча, потому что то, что хотелось сказать жене, неудобно было говорить при шофере; но и в аэропорту у него еще меньше оказалось времени и возможности побыть наедине с ней; лишь перед самой посадкой, когда пассажиры, отлетавшие московским рейсом, двинулись к трапу, он взял ее за плечи и торопливо проговорил:
— Ты прости, Лина, я не могу не лететь. Но я сразу же напишу, как только приземлюсь и устроюсь в гостинице, ты уж прости, прости. — И он обнял и как-то быстро и воровски (при Кравчуке и Луганском, провожавших его) поцеловал Виталину.
Отлетавшие уже толпились у трапа, и Дементий пошел догонять их. Он долго не оборачивался, и Виталина с ужасом подумала: «Неисправим, нет, совершенно неисправим!» Ей вдруг стало ясно, что переживала она зря, что усилия ее были напрасны, она боролась с пустотой и что Дементий не только не понял, но и никогда не сможет понять ее; она вдруг увидела в нем человека настолько далекого от себя, что ей жаль стало того чувства, какое она только что испытывала к нему; но подавить в себе это чувство она не могла и продолжала стоять и смотреть, как самолет шумно удалялся на взлетную полосу. «Хоть бы долетел, хоть бы уж все благополучно», — говорила она и вытирала платком слезы.
Из аэропорта Виталине предстояло вернуться в ту свою жизнь, где все для нее оставалось неизменным, и в то время как она с мокрыми глазами садилась в машину, привычное и повседневное постепенно начинало окружать ее. Она понимала, что всякое выяснение отношений с мужем откладывалось теперь до его приезда, и думала о нем уже по-иному, что не только дурное, но и доброе, основательное было в Дементии. Продолжая еще повторять: «Неисправим, нет, нет, совершенно неисправим», она уже осуждала в муже не все, а только то, что любая женщина осудила бы в нем.
«Да не так уж я и стара, на меня еще смотрят», — подумала она, когда, выйдя из машины и направляясь к поликлинике, заметила, как стоявший у дверей незнакомый мужчина, повернув голову, посмотрел на нее; ей нужно было хоть в чем-то найти утешение, и она готова была ухватиться за любое, что могло бы утешить ее.
Для Дементия же все те часы, пока он летел в самолете, были отдыхом, и он тоже входил в свой привычный ритм разъездной жизни. Он готовился к деятельности, встречам и впечатлениям, которые ожидали его в Москве, но мысли еще то и дело перебивались впечатлениями ночи, разговора и прощания с женой. Он пробыл дома всего только сутки, но ему казалось (по насыщенности переживаний), что он как будто и вовсе не выезжал в тайгу и тундру, а занимался семьей (занимался выяснением отношений, как он думал теперь), и он старался сейчас собрать воедино все то, что было так неожиданно пережито им. Когда он поднимался по трапу, он не оглянулся и не помахал жене и в посадочной толчее не заметил, что не сделал этого; но позднее, когда самолет уже набирал высоту, чувство, что плохо простился с Виталиной, что было что-то не так, как должно было быть, угнетало его. «Но что не так, что не так?» — возражал он себе. Он теперь не только не хотел видеть, но и не хотел признавать за собою никакой вины и морщился от досаждавшего ему неприятного чувства. «Нет, но я должен-таки уяснить, для чего ей все было нужно, — однако настойчиво продолжал он, несмотря на гул в самолете и голоса людей, отвлекавшие его. — Чего бы ей не жить спокойно со мной?» Он рассуждал, как отец, говоривший о Галине (и по поводу ее первого и второго замужества), отчего бы не жить ей с Лукиным или Арсением, и точно так же, как отец, считал, что главное для человека всегда заключено в общих целях, а не в личных желаниях; и оттого жизнь Виталины представлялась ему настолько очевидно простой, — дом, поликлиника, дети, дом, — настолько определенной и не требовавшей никаких сложных усилий (тех умственных усилий, какие каждый день вынужден был прилагать он в своей работе), что ему странным казалось, как можно было быть недовольной такою жизнью. «И все же — как глупо! Как все бессмысленно и глупо», — наконец подумал он, уже успокаиваясь и откидывая спинку кресла, чтобы устроиться удобнее и подремать. Он давно заключил из опыта жизни с Виталиной, что семейные дела, какими бы сложными они ни были, так или иначе уладятся сами собой, но что производственные (то, ради чего он летел в Москву) всегда требовали определенной затраты сил, и он экономил сейчас эти силы для главного, что предстояло сделать ему.
XIX
В эти весенние дни 1966 года Москва готовилась к встрече президента Французской Республики генерала Шарля де Голля, и чем ближе подвигалось время, когда должен был приехать президент, тем оживленнее в разных слоях общества обсуждалось это событие. Всем казалось, что Франция в европейских делах начала вести самостоятельную политику и выходила наконец из-под опеки Соединенных Штатов и что теперь от сближения ее с Советским Союзом во многом должен к лучшему измениться политический климат Европы. Говорили о торговых соглашениях, какие могут быть заключены теперь, о научном и культурном сотрудничестве; но главное, чего все ждали от визита и переговоров, было то, что газеты называли упрочением мира и разрядкою напряженности, и потому больше всего обсуждали именно это; и, несмотря на противоречивость всех прошлых суждений о генерале де Голле (что было еще в памяти у всех), говорили о нем сейчас только доброе и ожидали разумных шагов и дел.
Событие это настолько занимало москвичей, что когда в канун приезда президента Франции в квартире декана исторического факультета Игоря Константиновича Лусо на Ломоносовском проспекте собрались гости (по случаю его шестидесятилетия и награждения), говорили не о заслугах хозяина дома; всех интересовал вопрос, на какую меру сближения пойдет генерал де Голль во время переговоров, что это сближение даст советским людям, и в частности людям науки. На вечер этот были приглашены и Арсений с Наташею, и это, по существу, был их первый выход в обществе, когда Арсений мог представить свою молодую жену друзьям и коллегам по институту и когда Наташа в зависимости от того, сможет она понравиться им или не сможет (прежде всего, разумеется, их женам), будет принята или не принята среди них.
Пока в большой комнате накрывали стол (угощения были привезены из ресторана «Славянский базар», и оттуда же был приглашен официант), гости в ожидании, когда будут позваны к столу, толпились в кабинете Игоря Константиновича. Мужчины были в темных костюмах и не очень ярких, насколько позволяло приличие, галстуках и снежно-белых, как было модно, рубашках, которые были из нейлона, были красивыми, но неприятными и неудобными в носке; женщины, тоже большей частью одетые в нейлон, однако, держались свободнее, чем мужчины, так как руки и шеи их были открыты и они не стояли, а сидели в креслах и на стульях, расставленных вдоль книжных шкафов и стенки. С потолка низко свисала казавшаяся старинной рожковая люстра с волнистыми розовыми абажурами и отделкою под черное дерево, точно такою же, какой были отделаны книжные шкафы и стенка, и этот черный оттенок, несмотря на обилие разноцветных платьев, белых рубашек, лиц, причесок и рук, придавал всему происходившему тот торжественный и деловой тон, какой любил и считал всегда уместным профессор Лусо. Он был доволен тем, что пришли все, кого он хотел видеть у себя в этот вечер, и, несмотря на то, что разговор шел не о нем, и не об институтских делах, и не о делах исторического факультета, который вот уже более десяти лет и успешно, как это казалось ему, возглавлял он, он чувствовал себя так, будто был в центре внимания, и оттого был весел; и от этого веселого настроения и от приятных волнений, что труд его хотя и скромно, но отмечен правительством, он выглядел помолодевшим, словно исполнилось ему не шестьдесят, а только пятьдесят лет и впереди еще были время и силы достичь большего в жизни, чем он сумел достичь к этому дню. Он не вступал пока в разговор и держался точно так же, как обычно вел себя на ученых советах факультета, сидя на председательском месте, и только то и дело поворачивал голову к тому, кто начинал говорить; и с устоявшейся привычкой из общего потока фраз и слов старался выделить для себя лишь то, что можно было либо решительно поддержать, либо столь же решительно опровергнуть, не получив при этом сколько-нибудь аргументированного возражения.