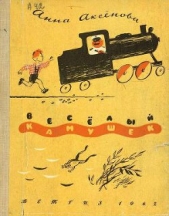Ардабиола
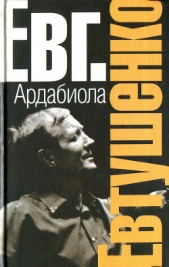
Ардабиола читать книгу онлайн
Джон Стейнбек, прочтя в 1964 году «Преждевременную автобиографию» Евтушенко, которая была издевательски раскритикована официальной советской критикой, сказал автору, что ему очень поправилась глава о похоронах Сталина, и шутливо предсказал Евтушенко, что в энциклопедиях XXI века его будут называть знаменитым романистом, который начинал в XX веке, как поэт. Первую прозу Евтушенко высоко оценил такой мастер, как Катаев. Роман «Ягодные места» в свое время мгновенно разошелся двухмиллионным тиражом в «Роман-газете». Повести «Ардабиола», «Мы стараемся сильнее» («We try harder») отдельно печатаются впервые. Оправдается ли предсказание Стейнбека?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мне чужды эти антигероические тенденции. Они расслабляют, — насупился Коломейцев. — Для младшего поколения скоро и Матросов перестанет быть героем.
— Э, нет, Виктор Петрович. У Матросова героизм был как раз вынужденный, — несогласно замотал головой Иван Иванович Заграничный. — Я так эту картину представляю. Дот смертью плюется. Товарищи вокруг гибнут. Кинул гранату — не помогло. Вторую — не помогло. Тогда — телом. Так не один Матросов сделал.
— Задним умом все самые умные, — резко сказал Коломейцев. — Легкая это штука — заднеумная философия.
— Твоя правда… — признал Иван Иванович Заграничный. — Война — не фильм про войну, обратно не прокрутишь… Хотя задний ум и лучше, чем передняя глупость… Война и самыми страшными днями нас испытывала, но и самый радостный день подарила — День Победы. Народный день. Народ не только знаменитыми героями силен, но и героями неучтенными. Конечно, будет день такой, когда к Большому театру уже ни один ветеран не придет, и звон медалей наших, как звон бубенцов на тройках в прошлом, исчезнет. Но смерть нас отменить может, а праздника этого не отменит. Он выстраданный, а не придуманный. И Россию никто отменить не сможет. Она тоже не придумана, а выстрадана… Мы вот, старшие, о молодых, войну не прошедших, беспокоимся, конечно, правильно, но иногда перебрюзживам излишне. Главно опекунско наше беспокойство — не подведут ли они нас. — И чертыхнулся. — А вот теперь, Виктор Петрович, и правда один цилиндр заглох… Ага, сообразил: свеча отошла. Это дело поправимое… — И продолжал: — А вот маловато мы беспокоились о другом — не подведем ли мы, старшие, молодых. Подведем, ежели они нам не поверят! Подведем, ежели они нам верят, а мы совсем не те, чем им кажемся. Думам: мы-то знам, но ведь мы старше, нам можно, а они молодые, еще некрепкие, им все знать опасно. Не устоят. А они потом все из чужих нехороших уст могут получить то, чо мы им не рассказали. Самы страшны факты из чистых уст — лекарство, а из грязных — отрава. Но все-таки насчет молодого поколения ты не беспокойся, Виктор Петрович. Погляди хотя бы на Лачугина. Золотой парень. И, между прочим, организованный. Тебя он, Виктор Петрович, обожат. Извини меня, даже слишком.
— Ну, это ты, Иван Иваныч, подзагнул… — с чувством некоторого тайного удовольствия сказал Коломейцев. — Просто у Лачугина есть чувство необходимости авторитета, кстати говоря, некоторыми представителями нашего великого рабочего класса и нашей интеллигенции потерянное. Подраспустил я вас малость, мои дорогие мыслящие подчиненные…
— Тяжело тебе, Виктор Петрович, нами, грешными, идейно неустойчивыми, руководить, а приходится. Но ведь и нам с тобой тяжело быват, — усмехнулся Иван Иванович Заграничный.
— Ты же сам порядка хочешь, организованности? А как же организованность без организаторов? — кольнул его Коломейцев. — Вот и терпи… Жизнь делают борцы. А борцы — это прежде всего организаторы.
— А вот наш Кеша совсем не похож на борца и даже не думает, борец он или нет, — неожиданно вспыхнула Юлия Сергеевна. — А вы знаете, он и есть настоящий борец. Хотя никаких речей о борьбе не произносит. Со своим физическим несчастьем борец. Тем, что такой добрый к людям, — борец. А как трогательно он любит Калю! Разве те немногие, кто умеют любить по-настоящему, не борцы за любовь? Многие, себя называющие борцами, и не знают, что такое любовь. Черствеют от постоянной готовности защищаться или нападать. Кожа панцирем становится. Это, конечно, от чужих ударов спасает. Но когда чья-то рука хочет нежно погладить такого человека, то он сквозь приросший панцирь ничего не чувствует. Самоубийственный это панцирь. Да и какие это борцы, если с собственной бесчувственностью не борются!
— А бензин-то мешаный, — вслух заключил Иван Иванович, вслушиваясь в мотор. — Вот прохиндеи… Извини, Юлия Сергеевна… Все ты правильно говоришь…
Вяземская продолжала:
— Мы почему-то подразумеваем в слове «борьба» некую подчеркнутую общественность, публицистику. Борьбой с хамством, например, считается только разоблачение чужого хамства. А разве самому быть нежным — не борьба против хамства? Разве самому быть правдивым — не борьба с ложью? Разве прекрасные стихи о прекрасном — не борьба с уродливым? Почему ощущение борьбы у многих только какое-то военное, а не духовное.
— Война тоже дает примеры высокой духовности, — поправил ее Бурштейн. — Но только на той стороне линии огня, где справедливость. В немецкой поэзии ничего не осталось от патриотических стихов Второй мировой войны, да и не могло остаться. А сколько осталось в нашей поэзии! Потому что на нашей стороне была справедливость. А там, где справедливость, там и дух… Война определяет многое. Но не все. Я знаю людей, которые на войне не боялись рисковать жизнью, пулям не кланялись. А в мирное время угодливо кланяются так называемым нужным людям, боятся рисковать ступенькой карьеры. А что такое ступенька карьеры или вся ее лестница по сравнению с одной-единственной жизнью! Я долго думал — почему так бывает. Пришел к выводу: на войне иногда смелым быть легче. Конечно, страшно идти под пули, но ведь рядом с тобой под эти пули идут и другие. Кроме того, за твоей спиной — приказ. А в мирное время иногда бываешь одинок, никто тебя не поддерживает своей смелостью, за спиной никакого приказа, и за собственную смелость ты можешь быть не награжден, а наказан.
— Вы правы, Борис Абрамович, — сказал Коломейцев. — Смелость за награды — это трусость, притворяющаяся смелостью. Не такой смелостью мы войну выиграли. Поэтому я за фронтовую смелость в мирной жизни.
— Фронтовая смелость у нас ишо к дефициту не относится… Ты мне, Виктор Петрович, бензиновый шланг боком придавливашь, — сказал Иван Иванович Заграничный. — Если надо будет, Родину защитим. Но ежели все будут готовиться только к тому, что Родину на войне защищать, кто же ее будет защищать в мирное время? От подхалимов? От прохиндеев? От трусов? От неорганизованности нашей собственной?
— От Эдуарда Ситечкина, — добавил Бурштейн, и все рассмеялись.
И вдруг Коломейцев ощутил какую-то совсем незнакомую ему резь в глазах. «Слезы? — поразился он. — Проклятие, стареешь, Коломейцев, но почему слезы?»
Собрав всю волю, остановил слезы, исподволь оглянулся на других — кажется, никто ничего не заметил. Горько усмехнулся над собой: «Сумел надеть панцирь и на глаза. Да что ты спрашиваешь сам себя, Коломейцев, почему слезы? Потому слезы, что ты вдруг понял, какие хорошие люди с тобой в лодке, какие они все единственные, как неповторим этот разговор с ними. Ты любишь этих людей, Коломейцев. А ты не хотел их любить. Вбивал себе в голову, что любовь расслабляет. Иван Иваныч… Бурштейн. Юлия Сергеевна… Почему и зачем ты изобрел новый риск для этих людей, столько раз уже рисковавших собой? А там, в другой лодке, Кеша, Сережа Лачугин… Они еще только начинают жить… Касситерит? Что он такое по сравнению с человеческими жизнями?»
Но движение лодок вперед было уже никому не подвластно.
— У меня было два тяжелых ранения, три легких, одна контузия, — вдруг завспоминал и Коломейцев. — А вот одно ранение было особым. Хотя и ранением это не назовешь. Забросили меня и моего кореша, Костю Шмелева, или, как мы его называли, Шмеля, в белорусские леса для связи с партизанами. Шмель еще до войны парашютным спортом занимался и прыгать не боялся. Когда самолетная дверца была открыта, меня он первым выпустил и по заду ободряюще хлопнул. А у меня всего два тренировочных прыжка было и, честно говоря, поджилки тряслись. Но я подсобрался, перед Костей стыдно было, и прыгнул. Приземлился я нормально, а вот Костя со всем своим опытом на сук напоролся, он его насквозь прошел. Так он и скончался на дереве, я его уже мертвого снял. Костя мучился, но не стонал, стоном обнаружить нас боялся. Завернул я Костю в оба наших парашюта, закопал и пошел в одиночку. Через день наткнулся на пастушка — мальчонку лет двенадцати, а его по совпадению тоже Костей звали. Лицо у него было, как яйцо кукушкино, все в веснушках. Повел меня к партизанам. Шли лесом, впереди Костя с двумя шелудивыми коровенками, позади я. Нужно нам было дорогу пересечь, и первым на нее Костя вышел, а я в кустарнике спрятался, выжидал. Постоял Костя на дороге и уже руку было поднимать стал, чтобы махнуть мне, но удержался. С той стороны дороги немцы из кустарника вылезли с ветками на касках, человек двадцать, а с ними два полицая. Видно, была засада на партизан. Обступили они Костю, стали допрашивать. А все это метрах в двадцати от меня происходит, и я все вижу, все слышу. «Где партизаны?» — спрашивает полицай. «Не знаю, дяденька… — мотает головой Костя. — Я коров пасу и ничего не знаю…» — «А ты из какой деревни?» — спрашивает другой полицай. «Из Еремичей…» — отвечает Костя. «Из Еремичей — и не знаешь? — усмехнулся первый полицай. — Это же самое отъявленное партизанское гнездо…» Немецкий обер-лейтенант при слове «Еремичи» улыбнулся такой змеиной улыбочкой. Сделал знак полицаям, и те содрали с Кости рубашонку. Вынул обер-лейтенант из своих тонких, как черви, губ сигарету и прижал ее к мальчишеской груди. Костя закричал, заплакал, попытался вырваться, но полицаи его крепко держали. А обер-лейтенант сигаретой по Костиной груди водит, то тут прикоснется, то там. Наконец, ввинтил он эту сигарету прямо ему в кожу и другую сигарету зажег и начал мальчика новой сигаретой ласкать, особенно у сосков, сукин сын, огонечек задерживал. А Костя только одно кричит: «Не знаю я ничего, не знаю…» У меня палец на спусковом крючке, а что я могу против двух десятков немцев? И такое у меня чувство, будто эта сигарета меня тоже насквозь прожигает. А полицаи обер-лейтенанту начали подражать, только не сигаретами, а самокрутками со всех сторон тычут и ржут. Костя сознание от боли потерял. Выпустили его из рук полицаи, и он упал на дорогу. А одна из коровенок подошла, стала ему раны языком зализывать. Обер-лейтенант показывает одному из полицаев на Костю — давай, мол, кончай его. Только дернулись детские босые ноги в дорожной пыли, и все… А когда я пришел к партизанам, разделся до пояса и стал мыться в ручье, меня кто-то спрашивает: «Что это с тобой? Как тебя угораздило?» Гляжу, а у меня вся грудь в ожогах, хотя никто меня самого ни сигаретой, ни самокруткой не мучил. Врач мне потом сказал, что такое бывает, хотя и редкий медицинский случай…