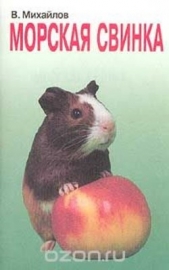Повести

Повести читать книгу онлайн
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы что, за дурачка меня принимаете?
Я замахнулся на его хлеб.
И вот однажды, уже на другом шарварке, который в ту осень отбывали в самом местечке, пан дрогомистш хотел наброситься на Грамузду. Что и едет медленно, и гравия на возу мало. Так и начал. Но бывший кавалерист не растерялся, как я когда-то.
— А вы напрасно так, ваше высокоблагородие, — прервал он Вершинина. — Нельзя мне. Лошадь-то жеребая.
Сказано это было с такой серьезностью и уважением, что в сезонном надсмотрщике, не заподозрившем иронии, проснулся бывший пехотный офицер, который заметно растерялся.
— Как так жеребая?
— Да так, обыкновенно. Вон Осечка…
— Что еще за осечка?
— Да Костя Осечка. Ему не впервой…
Шарварковцы были в основном из Нижних Байдунов, и пешие, с лопатами, и возчики. Вокруг дрогомистша, кто ближе, начали хохотать. Потому что совсем недавно заговорили про Осечку — как будто это от него потолстели сразу две старые девки, одна в Плёхове, а другая в Хлюпичах. И надо ж было в придачу, чтобы как раз тогда, когда Грамузда оправдывался, сам наш Костя Осечка, «Дай я ахну», вечно веселый кавалер, показался из-за поворота местечковой улицы. Сидел на возу, надуто подвязанный платком: зубы ехал лечить или заговаривать…
А все же «высокоблагородие» по нашему хохоту так и не догадался, что Сивка мерин, и он так и ездил до вечера с меньшей нагрузкой.
Молька
Дядька Тодар прославился было еще и Аресевой сучкой.
Аресь (так Алесь Макарец выговаривал свое имя) прозывался еще и Винтовкой: не гнулась одна нога. Высокий, сутуловато-здоровенный, какой-то не то чтобы глупый, как говорили некоторые, а такой себе простачок, недотепа, «недоля». Никуда никогда не спешил. И сам рассказывал, как был однажды в гостях у сестры, что замужем в Хлюпичах, как она угощала его оладьями.
— Одну испекра — гряжу я, другую, третью, четвертую, гряжу я. Слысыс? А узе как восьмую испекра — взял Аресь и в один момент все съел!
Ну, а оладьи и в тех далеких Хлюпичах пеклись — одна на всю сковороду, пышные, «хорошо подошедшие».
Или надвигается, скажем, грозовая туча, дядьке Аресю до зарезу надо спешить за ячменем, который к тому же и не связан, горстями лежит. Жена с дочкой побежали вязать, а он ковыляет на своей «винтовке» через всю деревню, а потом — смотри! — остановился у лужка, где люди, две-три семьи, торопятся перед дождем, гребут и копнят сухое.
— Помогай бог! — окликает дядька Аресь. И в доказательство еще большей приязни хочет соседям что-то необходимое рассказать. Начинает он, как обычно, вопросом: — Слысыс?
— Ты вот, Алеська, не «слышишь», а шел бы за конем, если идешь, — скажет какая-нибудь соседка, которой и не до слушания, и не до смеха над человеком.
— А я в один момент… — отвечает он.
Не хотите слушать — не беда, поковылял себе дальше. А потом, когда уже те соседи, скопнив сено, не успели убежать в деревню и сухо-весело сидят под копнами, а дождь с громыханиями льет как из ведра, дядька Аресь потихоньку едет себе, оставив «винтовку», верхом на ненужной дома лошаденке, и ничегошеньки его, недолю, не беспокоит. Лучше ведь ехать, чем идти.
И такое еще. Захотелось жареной картошки. А жены и дочери нет: ушли куда-то, воскресенье. Что же, он поджарит и сам. Полакомится по-праздничному. У него была мера богатства своя, про Грамузду он говорил: «О, бедный, бедный, а утром я засол, дак они завтракают. Картоска цисценая, цай. В будний день. Слысыс?» Огонь из печи дядька Аресь выдвинул в самое устье, чуть не на загнетку — того и смотри, что вот-вот загорится в трубе сажа. Известно же, какой хозяин, когда он ту трубу чистил.
В хате несколько человек соседей. Ближайший сосед, которому вместе придется и гореть, Тивунчиков Жмака сидит перед огнем на лавке и, по своей привычке старательно обгрызая ногти, молчит. Потом Жмака не спеша встал, спокойно взял с лавки ведро с водой и так же спокойно плеснул в печь. И картошка очищенная — туда, и сковородка с треножкой вслед. Жмака спокойно поставил на лавку ведро, не спеша сел рядом с ним и снова свои ногти в зубы.
— И ты думаес, сто узе оцень умный? — не менее спокойно спросил дядька Аресь. — Бог-батько был бог-батько и будес. А я себе в один момент картоски опять нацисцу.
У здоровенного дядьки была маленькая сучка. «До ноци хоросая», — хвалил ее хозяин, хоть и охранять было особенно нечего и страх от той Мольки был небольшой. Даже, кажется, не лаяла совсем, только вертелась под ногами. Бывали такие минуты, когда Аресь свою пестренькую брал, будто кошку, за пазуху, под рыжую суконную сермягу, пряча от опасности. Скажем, когда он ковылял по местечку и побаивался полицейского, который вдруг возьмет да оштрафует: какой ни пес, а все же не привязанный.
Однажды в местечке зашли к Гиршу Грамузда и Аресь, а там уже, ожидая хозяина, сидели дядька Евхим Заяц и я. Он, как всегда, молчал, а я, ученик шестого класса, не осмеливался заговорить.
Гирш-Эля Кумагерчик был сапожник. Холодный. Шить новое несли к Вэльвулу, а Гирш только латал да подбивал. Он был еще по совместительству и шамес, служитель при синагоге, которую называли школой. В пятницу, в сумерки, низкорослый и суетливый Гирш бегал по местечковой площади от дома к дому своих единоверцер и чуть ли не кричал, как пожарник, под окнами:
— Цайт лихт бентшн! Ин шул арайн!
Первый призыв относился к женщинам и означал, что пришла пора зажигать шабашевые свечи и начинать над ними благословенную молитву. Второй призыв — как бы команда мужчинам: в школу!
Был еще Гирш и пожарником, и не простым, а командиром топорников. В ту зиму, когда горели Хлюпичи и изо всех деревень, где они были, кинулись туда добровольные пожарные команды, главная команда, местечковая, так летела, что даже потеряла или забыла своего самого горячего — Гирша-Элю. Он побежал вдогонку, протрясся девять километров и успел еще к своим топорникам на головешки, за что и получил потом медаль.
Добродушный, крикливый Гирш-Эля. Сапоги мои в то время, в школьные годы, протирались чаще на голенищах, с середины, где косточки. И мастер, держа такой сапог, уже знакомый ему, качал головой в неизменной кепке:
— Уй, Иванко, Иванко! Тебе собаки рвут, что ли? Била латке, опять латке!..
А я не только молчал, но и побаивался, что он наконец возьмет да спросит: «Ну, а зачем это ты кричал и шпринген по школе?» Их «школа», старая деревянная синагога, стояла недалеко от нашей семилетки, и недавно мы на большой перемене заметили, что Кумагерчик куда-то пошел, а «школа» не закрыта. Наш осмотр ее изнутри был на этот раз такой веселый, что бедный шамес, вернувшись, не только закричал на весь свет, не только гнался за нами с метлою, а нашел и нашего директора в учительской и долго кричал ему, как мы там, в святой синагоге, шпринген — прыгали по ступенькам и скамьям.
Старший Гиршев сын был «подраввинком», учился в Мире на раввина, и про него говорили: «О, это кепэлэ!» Эту «кепэлэ», ученую голову под черной ермолкой и с пейсами, я видел раз или два, когда «подраввинок», гостя дома, проходил со двора в свою боковушку или выходил из нее во двор. Младший сын, уже не безымянный для меня, а Гиршев Бэрка, учился на портного. Подвижный, веселый, общительный парень, он иногда вспоминается мне, когда на телеэкране не слишком развязно щебечет, улыбаясь, один молоденький концертный конферансье. Бэрку я видел чаще не дома у них, а у Нохима, где он учился, потому что я заходил туда с Нохимовым Тепсиком, с которым мы дружили.
Итак, значит, дядька Евхим и я молча сидели и ждали Гирша, а потом зашли Грамузда и Аресь, и мы уже ожидали, разговаривая, а потом хозяин наконец пришел.
Он, как всегда, ворвался из сеней суетливо, а вместе с ним незаметно из-под ног прошмыгнуло что-то, то ли щенок, то ли кошка. Пока мы успели догадаться, что это Молька, которую дядька Аресь культурно оставил в сенях, Грамузда подхватился с места, вскочил на скамеечку и дико закричал: