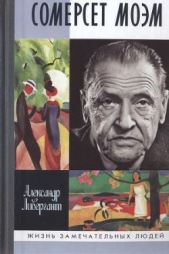Ожидание (сборник)

Ожидание (сборник) читать книгу онлайн
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В.Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом: романы "Возвращение брата", "Нескучный сад" и "Борька Никитин".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В конце октября, в день рождения Борьки Никитина, мы едем к нему в гости.
Проносятся станции, сначала более частые и людные, потом более редкие, пустые, мы помним здесь каждое название, дорога известна наизусть, как детское стихотворение. И каждый раз эта дорога вызывает в памяти послевоенную электричку, тесную и темную.
Теперь светло, народ вокруг чинный, негромкий, все с газетами и журналами. Дорога длинная, почти ночь езды, стучат убаюкивающе колеса, и вроде бы засыпаешь, задремываешь, а все равно все помнишь и видишь. И вот расстояние, казавшееся бесконечным, почти истаяло, и мы уже на подступах к той станции, к тому городку, где живет наш друг, «человек предместья», как он сам себя иногда любит называть.
Мы встретились с ним двадцать лет назад на вступительных экзаменах в Институт.
Это был странный Институт: вроде бы он предполагал готовить из нас тех, кем мы мечтали быть и кем — по глубочайшему нашему убеждению — уже были, и вместе с тем на всех консультациях, перед каждым творческим экзаменом Мастер, а за ним и деловитые ассистенты повторяли: «Нет, нет, нет, и не заблуждайтесь!»
Мастер, широкоплечий, свирепого вида, с неожиданно удивленной улыбкой, с маленькими, зоркими, широко расставленными глазами, говорил:
— Может быть, вы и художники, может быть. Но вы не те художники, кем мните себя видеть. Вы — оформители выставочных залов, а может быть, и магазинных витрин. Да, и не кривите лица, магазинных витрин: «Молочные продукты», «Изотопы», «Скобяные изделия». Чистая живопись — лишь раскладка, лишь основа, только материал, а там дальше она растворится в Ремесле… Да-да, и не кривите снова ваши личики. Ремесло совсем не дурное слово; вспоминайте почаще наши древние русские ремесла и забудьте навсегда о понятии «ремесленник»…
Он говорил, а лаборантка заносила в какой-то кондуит номера наших вступительных работ.
Что это были за работы? Гигантские холсты в наспех сбитых щелястых рамочках. Гравюры — темненькие квадратики на простынях листов. Школьные тетрадки с какой-то мазней, может быть, даже гениальной, но все это навсегда осталось тайной, так как работы в подобном виде не принимались.
Каких тут жанров и сюжетов только не встречалось: натюрморты с дарами отечественных садов; геометрические мертвые кувшины, фигуры строителей Университета, который поднялся совсем недавно (поражая москвичей и приезжих своим органным золотом и размахом), лица строителей метрополитена в сверкании автогенных вспышек, просто лица, портреты знатных работников сельского хозяйства и промышленности, портреты незнакомок и незнакомцев.
Лаборантка ставила номер, а лаборант, худющий длинный парень, пытавшийся поступить в Институт уже пятый год, таскал эти картины не глядя, как панели, как строительный материал, передавая их по цепочке, как на стройке, какому-то еще лаборанту, тот, в свою очередь, волок их в неведомый нам запасник. В большинстве своем их по прошествии предварительного конкурса возвращали. Это называлось «завернуть». Тогда это распространенное ныне словцо было новым и зловещей новизной резало слух.
— Заберите, пожалуйста, — говорила лаборантка или ассистентка.
И — забирали.
А первой весточкой поражения был листок с краткой, одновременно и безликой и безоговорочной формулировкой: «Не допущен к творческому конкурсу».
Это был первый этап, первый акт многолетней драмы.
Я принес свои иллюстрации к «Возмездию» и «Двенадцати» Блока, к Есенину и к «Хорошо» Маяковского.
Мой друг Сашка, победитель всех конкурсов, лауреат изостудии Дома пионеров, человек широко известный в наших узких кругах, представил цикл линогравюр: «Новая Москва (Ленинский проспект, Черемушки)».
Когда мы пришли с ним в Институт, то наткнулись не на ассистентку, не на лаборантку, а на самого Мастера. Коренастый, похожий на старого боксера, ставшего тренером, с прижатыми к черепу ушами, приплюснутым носом как бы от многих жестоких схваток, это был сорокалетний человек (которого почтительно называли Мастером и никогда по имени-отчеству); его мы смутно знали по иллюстрациям к детским книгам, самым первым нашим книгам с нежными синими и розовыми чудо-птицами, так не вяжущимися с его суровым обликом.
Он просмотрел — быстро, с кажущимся безразличием — Сашины работы и сказал, бегло глянув на него:
— Годится. Допускаетесь.
Я ждал, что он так же, без оттяжки и проволочек, решит и мою судьбу, но чуда не произошло. Он бросил:
— Оставьте, поглядим.
И так прозвучало это «оставьте», что все, над чем сидел вечерами, ночами, все папки листов, исчерканных легким перышком, все из детства усвоенное раз и навсегда, вечно трудолюбивое «изводишь единого слова ради», показалось грудой макулатуры, некоего бумажного утиля, который мы собирали и сдавали на специальный пункт по приему, обходя десятки домов.
Оставил.
Словно нырнул с головой в вязкую, стоячую воду и тут же вынырнул, сказал себе: е р у н д а.
Минутная апатия, равнодушие, взгляд в окно, где молодая, не запылившаяся еще листва… «Мне что-то совершенно все равно, какое нынче вынесут решенье…»
Нет, не все равно.
Я пройду. И даже если этот с приплюснутым носом забракует, завернет, все равно п р о й д у, не сейчас, не здесь, но пройду. Другого не дано. Как принято говорить у нынешней молодежи: без вариантов.
Мы пили чай в институтском буфетике. Мой друг, давясь, будто у него было сужение пищевода, заглатывал пончики, говорил о постороннем — о футболе, о погоде, ничем не обнаруживая скрытую радость победителя. Я же был мрачен, хотя ничего и не произошло и поражение еще не витало под сводами буфета. Но всю жизнь с детских лет я привык ожидать худшего, и неслучившееся виделось мне как случившееся.
Нельзя сказать, чтобы я не радовался удаче друга. Мне нравились его работы, действительно нравились. Я верил в него, но еще больше, гораздо больше я верил в себя, и я старался радоваться, приучал себя к мысли, что надо радоваться, но впервые в жизни я ощутил то, чего не мог тогда объяснить и даже назвать: не зависть и не обиду и даже не горечь несправедливости. Скорее всего это была боль непонимания, горечь оттого, что тебя не захотели узнать, поленились узнать, хотя это, казалось, было так просто: вытащить лист и посмотреть опытным взглядом, взглядом Мастера.
И тут в буфет вошел парень, худенький, невысокий, светлые волосы стрижены ежиком, взгляд по-комсомольски открыт и дружелюбен. Он волок всего две картины, незачехленные, открытые, без рамок.
Вид у него был растерянный, будто ему уже отказали. Увидев нас, он подошел и сказал с заметным нажимом на «о»:
— Можно оставить на минутку?
Мне даже показалось, что он нарочно окает. Думает, раз из глубинки, с периферии, значит, зачтется.
Не дожидаясь ответа, он направился к буфетной стойке.
Я глянул на его холсты, глянул небрежно, предубежденно — оценивающий, холодный взгляд этот эстафетой был мне передан тем самым боксерским Мастером. Да, с холодным равнодушием. Ни в кого и ни во что не веря.
Глянул и обомлел. И даже отошел, чтобы еще раз увидеть как следует, с дистанции, целостно.
Два портрета стояли прислоненные к металлическим голым куринообразным ножкам буфетного стула; два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным. На одном было наклеено «Отец», на другом «Мать».
Отец был молодой, чуть ли не моложе самого автора, в форме железнодорожного машиниста, с нарядными блестящими пуговицами, в фуражке. Голубые глаза мерцали молодым восторгом жизни, но в легком их блеске сквозило тревожное ожидание чего-то непоправимого.
А мать сидела прямо, напряженно; крестьянское лицо, городское платье, но чувствовалось, что живет не в деревне и не в городе, а где-то между, может, в пригороде, может, на разъезде, на полустанке, но из деревни — по рукам видно — недавно, руки ее выражали неловкость, будто не сын ее рисовал, а сидела перед фотографом и ей это было непривычно. Да и вообще непривычно с и д е т ь, а привычно двигаться: стирать, кормить детей, ходить за скотиной. Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко посверкивало. Улыбалась она смущенно и с любопытством, будто это не вы разглядывали ее, а она, чуть робея и стесняясь, глядела на вас.