Три тополя
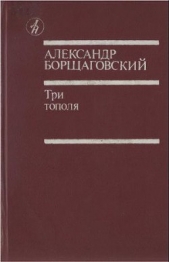
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Учителям надо детей, как попу попадью, — сказал Иван серьезно. — Поп прихода не получает без попадьи.
— В православии это так, но у католиков наоборот, пастор или ксендз не смеют жениться.
— Попу лучше! — решил Иван без колебаний. — А учителю надо детей, иначе как чужих воспитаешь: одним умом? Книгой? Без сердца?
— Что вы! В жизни все сложнее: человек тоскует по детям, а их нет, и вся его любовь, все нерастраченные чувства отдаются чужим детям. Они и перестают быть чужими, учитель привязывается к ним.
— А что как остервенится? Зло возьмет, что у всех есть, а у него нет. Не бывает?
— Наверно, и так бывает, люди разные. Но это при любой службе может случиться.
— Не-е! — резко не согласился Прокимнов, точно все это давно им обдумано. — Коня хоть слегой уходи, к прокурору не потянут, трактор запорешь — оштрафуют, выгонят, а на детях злобу вымещать…
— А если дома? — перебил Капустин. — Дома можно?
— Дома и поучить не грех.
Отцовские, черные корешки вышли вдруг наружу, не простодушие и пытливость открылись в Иване, а мертвящая законченность взгляда, его мысль будто изведала все и все решила.
— Жизнь едина, вот в чем штука, — сказал Капустин, ощущая, как между ними вырастает преграда. — Кто способен беспричинно искалечить лошадь, тот и ребенка не пощадит, ни тела, ни души. Разве что дверь в избу прикроет, чтоб другим криков не услыхать. Уж если человеку пришла нужда, как вы говорите, вымещать злобу, то он найдет кого-то, кто послабее.
— А ты не будь дураком! — угрюмо сказал нисколько не поколебленный Прокимнов. — Теперь нянек нет.
В уклончивых взглядах и резковатых движениях Ивана угадывалось нетерпение, хмурая решимость оставаться самим собой, не смущаясь присутствием учителя; Капустин понимал это напряженное, недоброе состояние, когда человеку хочется сбросить с себя прежнюю зависимость, стать вровень, а вровень — в этом случае значит и выше, любой ценой, но выше. Они сидели рядом, на двух сваях, опустив ноги в напористую воду, но Прокимнов как бы слился с осклизлым бревенчатым срубом, был частью реки, а Капустин выглядел нелепо — коричневые кеды, белые худые голени, намокшие, сползающие с колен трикотажные штаны с голубым лампасом, и все это зачем-то под водой.
Прокимнов все независимее приглядывался к Капустину, будто примеривался к чему-то, и наконец спросил с натужной развязностью:
— Ну как, городские послаще?
— Не понял: о чем вы?
Иван замялся было, прижмурил глаза, улыбочка опасливо сходила с лица, он заколебался, не повернуть ли ему на что другое — на карамели и бублики, но решился идти напрямик.
— Бабы городские! — уточнил он. — Говорят, с этим делом там — блины. Хоть по телефону сговорись — и концы, порядок.
Капустин сгорбился на ряже, сунул ладони под мышки и обиженно насупился. Теперь он выглядел и вовсе нелепо на сыром срезе бревна: лицо медленно заливалось краской, все, от высокого, с залысинами лба до подбородка и острого кадыка.
— Мне сравнивать не с чем, Иван Сергеевич, — сказал он холодно, глядя мимо Прокимнова, терзаясь собственной ложью и внезапной мыслью, сознанием, которое заставило его внутренне сжаться: именно Саша, Саша Вязовкина — вот радость его жизни. Никто этого не узнает, годы пройдут, весь их век, и ни одна живая душа не заподозрит этого, но он-то знает все. Алексей чуть не застонал от полыхнувшей в сердце ненависти к мужу Саши. — Я женат, и мне не с чем да и незачем сравнивать, — повторил он резко.
— Ну, вы даете-е! — протянул Иван разочарованно, но без полной веры к словам Капустина. — Вы…
Он захлебнулся смешком, сложил темные, чувственные губы с тем фальшиво сконфуженным, нагловатым выражением, какое Капустину случалось видеть у парней в зале кино, когда на экране целовались герои, но тут спиннинг чуть не вырвало из рук Прокимнова.
— Жерех! — определил он. — Атомный удар.
Удильник гнуло, рыба подвигалась неуступчиво, рвалась к простору реки, метнулась в глубину, в придонный сумрак, откуда так свободно было вылетать вверх, в вызолоченные солнцем струи. Капустина качнуло на ряже от неистового желания, чтобы рыба сорвалась, ушла, взметнулась над стремниной, показала слепяще белое брюхо и скрылась под водой.
— Хорошо сидит. — Иван еще раз подсек жереха лихим, рискованным движением. — Намертво. Без пассатижей не снять. Ну, погуляй, погуляй!
Прокимнов ухватил катушку и держал спиннинг, а другой рукой нащупал за спиной конец провода, намотанного на железный костыль, дернул завязку, размотал и приподнял тяжелую, раскидистую гроздь голавлей в серебряном чекане и красном оперении.
— Подержите! — сказал он, с усилием волоча по воде голавлей. — Возьмите сколько надо, я не обеднею. И жереха забирайте… Не торговать же рыбой! — сказал он вдруг смиренно.
Капустин отвернулся, он случайно знал правду от Воронка: у воды стоит на тормозе мотоцикл Ивана, на нем до конезавода и получаса не будет, Иван и рыбу продаст, и к больничному мерину не опоздает.
— Держите! — уже нетерпеливо сказал Прокимнов: ему надо было брать жереха.
Капустин потянулся к мокрому проводу, их руки соприкоснулись, и Прокимнов, не глядя, отдал ему кукан, но поторопился на долю секунды: Алексей еще не ухватился крепко, не сомкнул пальцев, а тяжесть была велика, провод чиркнул по ладони и ушел в воду. Алексей изогнулся, чуть не упал, стараясь ухватить его, но течение крутануло кукан, утопило, на миг снова показало и понесло вниз по реке.
— A-а! Вот беда! Как же это?! Надо такое — ночь ловили… — бормотал Капустин, не поднимая глаз. — Вы уж простите…
— Была печаль!..
Заемные слова, не по праву, без души присвоенные, хотя и облегчали вину Алексея, заставили его взглянуть в лицо Прокимнова: ни тени досады, тот же нагловатый, залихватский оскал крупных, влажных зубов, глаза не щурятся, открыты, шарят по воде, словно высматривают унесенный кукан.
— Еще настегаю. Сам виноват, мне бы из руки не выпускать. — Он спокойно занялся жерехом, кажется, не слыша неловких слов Капустина, обещания сегодня же принести в подарок новую импортную леску и тройники.
Жерех приволокся крупный. Едва его нежные, арбузные жабры обожгло воздухом, он замер, распластался неподвижно. Прокимнов жестоко выломил тройник из его пасти, достал из внутреннего кармана пиджака капроновую авоську и головой сунул туда жереха.
— Возьмите. Он на жарево хорош.
— Нет, нет, ни за что!
Сегодня же не только Саша, река, деревня будут знать: сын Маши Капустиной, учитель, упустил прокимновский кукан. Это приклеится, останется за ним, через годы будут вспоминать.
— Сеточку я для хлеба прихватил. — Иван небрежно зацепил авоську за железный костыль, уговаривать не стал. — Рысцов вкусно печет, да мало: курам не хватает. Мне восемь буханок на две семьи надо. В деревне наши бабы за волоса от прилавка оттащут, а в Рыбном хоть машиной бери, — откровенничал он, позабыв, что рыбой он не торгует, и незачем жечь бензин, мотать поутру в районный центр. — Государству прибыль, не даром ведь, за кровные покупаю… конюху жалованье положено.
Проснулась Катя чуть свет. Сквозь сон ощутила свое одиночество в амбарчике, старух нашла не в доме, а за городьбой, у открытой калитки. На плечах у Цыганки кашемировый, бахромчатый платок, в закатных, темной палитры цветах, Прасковья Лебедева светилась нарядной и тихой белизной: светлая, оборчатая, в голубой горошек кофта, розовая, выбеленная годами стирки юбка, над седыми волосами крахмальный, зимней белизны платок. Осеняло их безоблачное небо, могучие ветви вязов, перекинувшиеся через дорогу от ветеринарного участка, и кусты отцветшей сирени, зеленой кровлей нависавшей над высокой городьбой.
Глаза Прасковьи празднично ожили: широкой улицей, мимо двух скособоченных, серых, вынесенных за усадьбы амбарчиков шли из деревни люди. Катя подумала, что старухи высматривают кого-то в их череде; неумытая, в пестром халатике, она попятилась, готовая исчезнуть, но Цыганка окликнула ее, сказала, что Алеша еще не вернулся с рыбалки, что сегодня сенокос, вся деревня тронулась в луга, люди спускаются к Оке, кому где ближе, кто плотиной перейдет, кто сойдет к парому проезжей дорогой, а многие ходят здесь, тропками крутого оврага. Лебедева при негнущейся, окостеневшей шее неловко, поясным, храмовым поклоном кланялась людям, тоже одетым небуднично, и озабоченно, будто еще не сложила с себя казенных дел, напутствовала их на страду. В ответ шутили, окликали Пашу председательшей, грозились, если не застанут внизу паромщика, завернуть обратно к Цыганке поснедать, поглядывали на незнакомую девчонку у городьбы: босая Катя, встрепанная со сна, под навесом сирени, казалась совсем девочкой. Цыганка хвалилась, что Катя — невестка, городская учительница, прошлой ночью вместе с Алексеем пешком пришли из Рыбного, их на машины звали, а они, дикие, молодые, разувшись, шли на родину. Завидев издали людей, Цыганка объявляла Кате, кто идет, женщин из отделения связи назвала почтовыми девочками, сказала, что и Нинка из продмага будет на пойме, а магазин на замке, торговать останется только лавка над пекарней; нынче и машин хватает, но пойма вся в бочагах, озерцах и протоках, она ждет косы, если всей деревней приняться, за неделю сложат сено в стожки, трава не перестоит, вся будет как у доброго хозяина. И людям хорошо, на пойме они — семья, мир, и деньги тут верные, кто в годах, кому к пенсии повернуло, на последних сенокосах присчитает к ней свой рубль, и уж этот рубль — до самого конца, никуда от него не денешься…

























