Вольница
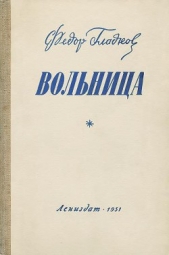
Вольница читать книгу онлайн
Роман «Вольница» советского писателя Ф. В. Гладкова (1883–1958) — вторая книга автобиографической трилогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»). В романе показана трудная жизнь рабочих на каспийских рыбных промыслах. Герои проходят суровую школу жизни вместе с ватажными рабочими.
В основу «Вольницы» легли события, свидетелем и участником которых был сам Гладков.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 22 марта 1951 года Гладкову Федору Васильевичу присуждена Сталинская Премия Первой степени за повесть «Вольница».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не всякого он, браток, в свою ватагу брал. Привечал того, кто ему по нраву был.
— А долго вы так торчали-то? — не переставая смеяться, потянулся я к нему и незаметно обхватил его костлявые колени. — Чай, ведь на голове-то, дедушка, стоять не мило.
— Куда там!.. Думал, позвонки сломаю. Ну, видит он, что клешни-то мои не разорвать — взаклад я ноги-то его взял, — диву дался, обомлел весь. Рванул меня вверх — не берёт, хотел сапогом лицо мне раздавить, а я с сапогами-то его скипелся. И, главное дело, ребята со смеху катаются, а ему — ущерб. Другой на его месте отшвырнул бы ноги-то мои да на меня бы и грохнулся, а он сам захохотал и похлопал сапогами моими, как ножницами: «Таких, говорит, мне и надо. В моей ватаге будешь. Хоть ты и Ермил, а меня вразумил… то-то! Дальше моей ватаги не шагнёшь. У нас всё шито-крыто: никакие ветры наши утайки из шайки не выдуют. И выходит — судьба: ты меня спроть шерсти погладил без робости, а я хотел показнить тебя за дерзость и сам в клещах очутился. Ну, и спаялись. Казнить человека без разума — себя казнить. Спасибо за науку. Почуешь себя дураком — умнее станешь. То-то!» Обнялись мы с ним и с того дня не разлучались. Зато и натерпелся я от него, неукротимого! Как только штормовая моряна — так и в море. Ребята были на подбор: ни чорта, ни бога не боялись, сами черти от них, как воробьи, разлетались. Неделями по морю носились, а они только бесились пуще. Сам-то Иван Буяныч — как гром с грозой у всех на виду и день и ночь бушевал. А глядя на него, и моряки, и я с ними как железом наливались. Эх, и люди были! В эти штормы Иван Буяныч словно на свободе гулял: гроза грозой, а весёлый, лихой да удалой был! Заметит, что кто-то из ребят духом ослаб — коршуном на него: сцапает, вскинет над палубой и орёт: «В море выброшу, тухлятина!» И знали, что не попусту грозит: не пожалеет, выбросит. Толковали про себя на берегу: бывали такие оказии — струсит человек, обомрёт и летит за борт. А никому и в разум не придёт, чтобы сболтнуть нечаянно: только моряна да ватага знали.
Этот рассказ старика так меня захватил, что я дрожал от волнения. Это было похоже на сказку, даже сильнее сказки: это была сама жизнь, а не досужий вымысел. Сказочные богатыри всегда казались мне призраками, созданными людьми для утешения, чтобы легче было переносить безотрадную и подъяремную жизнь. А такие богатыри, как Руслан или Гуак, мерещились мне, как причудливые образы сна: одеты они в старинные одежды, которых не бывает в жизни, и кони их небывало тонконогие, с шеями, похожими на крендели. Они витают где-то вне жизни, подобные Егориям-победоносцам. А вот Иван Буяныч — наш, живой человек, такой же, как Карп Ильич или Гриша-бондарь. Да и жиротоп рассказывает о нём, как о своём атамане-дружке, с которым он плавал по морю не один год. Этот Иван Буяныч стоял передо мной такой же большой, коренастый силач, как дядя Ларивон, с такой же длинной бородой — такой же ласковый и страшный.
Жиротоп глядел сквозь слёзы на гривастые валы и на прибой, словно зорко следил за чем-то вдали. Но я ничего не видел, кроме всклокоченных волн, которые неслись к нам от горизонта кипящими шквалами, необъятно шумели и, вздымаясь на отмели, обрушивались с грохотом и гулом.
Старик морщился и мигал от брызг и водяной пыли. Обняв колени узластыми руками, он будто забылся и шептал что-то непонятное, усмехался и озадаченно крутил головой.
— Вот уж двадцать пять годов… — пробормотал он вздыхая. — Убежал в море… Морянка была… такая же вот свеженькая, как сейчас. Случилось это с ним, когда был выпимши. Любил под парусом один встречь ветру по шквалам гулять.
Я нетерпеливо ждал, что будет дальше с Иваном Буянычем, но жиротоп опять замолчал и задумался. Мне было досадно, что он замолк на самом интересном месте: куда побежал один Иван Буяныч? что с ним случилось? почему двадцать пять лет о нём ни слуху, ни духу? Тут уж была какая-то тайна, и быль переплеталась со сказкой.
— Дедушка! — с жалобной настойчивостью крикнул я, встряхивая его колени. — Дедушка, рассказывай, чай!.. Иван-то Буяныч утонул, что ли? Аль, может, разбойник был?
Ермил вздрогнул и опамятовался, словно я ударил его. Но, очевидно вспомнив, что перед ним парнишка, оттолкнул меня, а потом сразу схватил за плечо и дрябло засмеялся.
— Чего болтаешь-то, сатанёнок? Это Иван-то Буяныч разбойник? Да такого человека искать — не сыщешь. Последнюю рубашку товарищу отдаст. А заболей, всё бросит и сам будет отхаживать. Однова шквалом человека сбросило в море, буря была неисповедимая. Он кинулся в волны и спас его. Ну-ка, в шторму-то попробуй броситься в море — верная смерть. А он и не подумал о себе. Как был в бахилах, так и кинулся в пучину-то. Хоть и бесстрашный народ, через всякие беды прошёл, а вся команда в одночасье онемела. И сейчас в ум не возьму, как это он не утонул и человека вызволил. А ведь посуду-то, как щепку, бросало и его с товарищем вверх швыряло, шквалами заливало, а то и прочь отбрасывало…
Старик разволновался, вспоминая об этой буре, и задыхался, хватая воздух открытым ртом. Тусклые глаза его застыли в ужасе. Но я понял, что эта тяжёлая одышка и страх в глазах — не от того, что он заново переживал это далёкое событие, а от старческой слабости. Он долго кашлял — хрипло, со свистом, изнурительно и, измученный, прилёг на песок. Отдохнув немного, он поднялся и опять обхватил руками свои колени. А мне как-то не верилось, что этот одряхлевший старик был когда-то лихим моряком, ловким, бывалым и сильным парнем, который боролся со штормами и ватажничал с какими-то удалыми богатырями.
— Молчок, сверчок! Проживи с моё, поборись с бурями да с бедами — и ты такой будешь, как вон та баржа-старица. А старость для нас — напасть да бесславье. Иван Буяныч только одного и боялся — дряхлости. Старость — зазор, мол, да наказанье для человека. Судьба — неправедный судья: она всех в один невод гонит и в одном чану солит. А я, мол, поперёшный уродился — наперекор люблю жить: хоть и в наём иду, а в неволе не буду, хоть встречь буре бегаю, а ей не поддамся. Я деву-Моряну люблю и Хвалыну предан, а спорю с ним с открытой удалью. Говорок уж больно красный был да и мастер разные чудеса разводить.
Хотя старик и кашлял и обрывал свой рассказ, но в хриплом, клокочущем его голосе слышалась внутренняя сила и убеждённость. Я даже перестал замечать его дряхлость, захваченный его рассказом. Так молодо старики не вспоминают о прошлом: все они сокрушаются о глупости молодых лет, стонут и стараются показывать свою беспомощность и греховность, словно хвастаются своими старческими недугами. А жиротоп Ермил досадовал на свою одышку и кашель и шутил над своей старостью. Он, должно быть, любил вспоминать свою молодость и гордился ею: сильный был, ловкий, удалой моряк, который не боялся ни бурных непогод, ни гибельных опасностей. А ватажная вольница была надёжной защитницей от всяких напастей, где каждый стоял друг за друга, где каждый ценился по его силе, умельству и верности и где никто не знал ни усталости, ни уныния, а веселились да гуляли, как богатыри. И вот теперь он, должно быть, видел во мне не просто парнишку, а человека, перед которым охота ему заново вспомнить дни молодости. Я видел, что глаза его свежели и весь он как будто становился бодрее, сильнее, коренастее. Он, вероятно, был одинок, покинут и забыт всеми, как не нужная никому человеческая головешка, и рад был всякой живой душе, которая доверчиво подходила к нему. Я почувствовал в нём человека, который сохранил в себе страстную привязанность к морю, любовь к сильным и мужественным людям и, очевидно, не хотел знать молодости без удали и подвигов. Вот волнуется море, бушует, бьётся в берега, а он смотрит на него, не отрываясь, и улыбается. О наших людях он ничего не говорил — ни доброго, ни худого: они будто не интересовали его, а к смерти Гордея отнёсся безучастно. Он жил только образами своей вольной юности и считал и себя, и своих былых друзей людьми особой породы, а люди, с которыми он жил сейчас, казались ему, должно быть, незначительными, бедными духом, не способными ни на какие отважные дела. Я одно уловил в его глазах — любовную зависть к своему другу Ивану Буянычу, который поднял бунт против судьбы-злодейки и бесстрашно ушёл в безвестные дали.


























