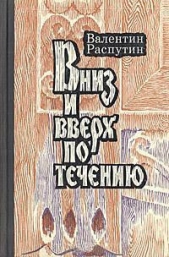Алба, отчинка моя
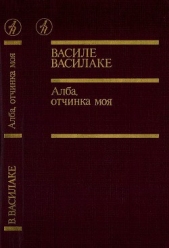
Алба, отчинка моя читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Слышь, дед Василий, не нальешь чекушку? Заплачу, небось не даром! Стариков своих хочу помянуть, Земля им пухом…
Сядешь за стол благостный и растроганный, с мыслями о бренности земного… А цуйка Василия Бану забористая, аж дух захватывает, в ней терпкая сладость того дерева, чьи корни добрались до самого сердца твоего деда-прадеда. И не заметишь, как с первого же стакана пустишься не деда вспоминать, а того политикана, который в свое время ловко его надул. Ну а после второго захода — только тронь:
— Ух, черт бы побрал, одни жулики кругом, ничем их не вытравишь! В прошлую пятницу мельник обсчитал, пшеницу мерили на весах… Или вот межа… еще дед мне собственноручно застолбил. И кто, ты думаешь, ее ночью перепахал? Да Тудор, мой родной брат! Так ему, оборванцу, мало — взял и столб втихаря перенес, отхватил шмат земли!.. Чтоб ему так-переэтак, брат называется!
Тут без поддержки, будь уверен, не останешься:
— И не говори!.. эту жизнь! Пора уже топор в руки брать!..
Вот вам и наука… успокоил душу, называется! Опрокинешь стакан, а дед тут как тут, ухмыляется из тартарары: что, внучек, поладил с миром?.. Вот тебе мой букварь, учись читать, милый, — пока только по складам разбираешь…
5
Итак, подходил к концу третий день, и кладбище надевало свой ночной балахон. Вечерело, вот-вот опустятся сумерки.
На завалинке у дома Василия Бану сидели Георгий Лунгу, сам Василий, братья Сынджеры и потягивали хмельную настойку. Выходило что-то вроде поминок по усопшему, мужчины подозвали и тетю Наталицу — она стояла в сторонке, — пусть тоже поднимет стакан за упокой его души.
Где-то за перелеском, в соседнем селе Вулпешты, слышно было, как покрикивал патруль, ревел какой-то теленок, видно по корове, лаяли собаки. Только в тесной и темной каморке кладбища лежал солдат со звездой на пилотке. Тревогой веяло по округе.
То ли от тех далеких звуков, то ли от тревоги, разлитой в воздухе, но на сей раз стакан цуйки поунял буйный нрав Сынджеров. Кстати, осталось здесь от шестерых трое. Пришел черед Георгия Лунгу проникновенным родительским словом напутствовать душу солдата, и он сказал:
— Вот оно как, Аргир… Жил ты тихо, незаметно, никому глаза не мозолил. А стоило умереть — и стал ГЕРОЕМ.
— Чего это ты, Георгий? — покосился на него Бану. — Смерть — это случай, бре… орел или решка, вот что я скажу, и никого не касается, кроме тебя самого…
— Не-ет! — упрямо протянул Лунгу. — Как же так, земля не принимает нашего односельчанина! А если с кем из нас такое случится, да хоть с тобой, Василий, — тебе это понравится? Тут, братцы, ИСТОРИЯ впуталась, да! И я готов… Вот что я подумал, ребята… Надо послать королю Карлу телеграмму от нас, живых… Так, мол, и так, ваше величество, не уразумеем мы одной штуки: жил на земле человек, не без греха, конечно, как все мы, грешные… Но почему не заслужил он похорон?
Василий Бану заерзал на своей завалинке:
— Ну, Георгий, совсем спятил на старости лет? Да по тебе тюрьма давно плачет, сядешь за милую душу! Тоже мне, герой нашелся — соображать надо, война, между прочим, идет, и у меня солдат в сторожке. А через пять минут нагрянут немцы — схлопочем как пить дать! Та-ак… — Он вдруг дернул Лунгу за полу пиджака. — Что это за пиджак, Георгий, скажи мне? Смотри, одни прорехи, ветер гуляет… Это называется пиджак? Снимай быстренько!.. Слушай, поносил — дай другому! А ты, Петро Сынджер, штаны скидывай, ничего — лето, тепло, в кальсонах домой дойдешь, проветришься… Та-ак… Кто это ляпнул, что на кладбище непорядок? Ну, где этот военный, покажите мне его! Ты его видел, Георгий?.. Да, а на голову у меня шапка найдется… Раз-два, и в три счета — все мы теперь штатские, люди мирные! Поняли?
Пожалуй, не очень-то они поняли… Да много ли его надо, ума, чтоб ухватиться за соломинку? Нашелся выход, ну и слава богу. Поднялись, кряхтя, с завалинки, потоптались, побурчали и двинулись к сторожке. Великая штука эта бановская цуйка, смотрите — все распри как рукой сняло.
Да, но сам-то Василий, а? Голова!.. Его захватила собственная идея, не остановишь:
— А придет патруль, скажу: «Здравия желаем, господин патруль! Разрешите доложить — на моем участке все тихо и мирно, граждане, как им положено, спят мертвецким сном. Ах да, есть у нас пополнение, новичок — угодил тут один под шрапнель. Из наших, местный… бедняга, ни кола ни двора… ловил мотыльков в поле, попал под обстрел… Зашел поплакаться — обидно, мол, все мотыльки куда-то подевались, не повезло… Правда, не сам пришел… А что остается? Жил один-одинешенек, своих никого… куда податься, коли уже мертв? Да в компанию к тутошним! Вот и лежит-полеживает, приема дожидается к святому Петру-ключнику. А прием — это яма… а яму копать надо, а для этого нужны живые, и вот, господин патруль, вижу я, придется самому за лопату браться, потому что вы военные, и вам воевать надо!..» — И вдруг Бану запнулся, словно обмяк: — Эх, братцы вы мои, эта жизнь… чтоб ей пусто было… Чем черт не шутит, может, вовсе и не ваш Аргир!
Тетя Наталица даже споткнулась:
— Ой, что ты, дядя Василий! Не лишнего хлебнул?.. Кого ж мы хороним, как не Аргира?
— Э-э, Наталья, ты сперва поживи с мое, да посиди тут на кладбище лет пятьдесят с хвостиком, да похорони полсела… наглядишься…
Тем временем скрипнула дверь сторожки, мигнула лампадка, и Бану прищурился: так и есть, сапоги что надо — хромовые, пару раз надеванные, не больше…
— Н-да, — угрюмо буркнул он, — придется ему и обувь сменить, сам этим займусь.
Василий, как и Георгий Лунгу, прошел в пехоте первую мировую, а какой солдат не знает — русскому сапогу износу нет! А если к тому же твоя латаная-перелатаная обувка расползлась, правый вон каши просит… Разве это дело — живому пропадай, а мертвый в обновке?..
Услышав такое, тетя Наталица вздохнула и перекрестилась. Слава богу, потихоньку-полегоньку, неприметно, как бы невзначай, все становится на свои места. Теперь можно быть спокойным — Аргира похоронят, и притом по обряду, как христианина. А старик Бану доволен, и он внакладе не остался — и цуйка, и сапоги… Харон — что надо!
Что до жизни со смертью, то они тоже тихохонько разбрелись по своим углам. А люди, которые прибежали днем на поле, сейчас, должно быть, ворочаются в забытьи на подушках и видят сны…
Расходимся и мы по домам, чтобы улегся наконец этот суматошный день. Тетя Наталица взяла меня за руку:
— Давай зайдем к маме, скажу, будешь у меня спать.
Дом ее пустой, темный… Неужели тетя боится оставаться одна?
В комнате она зажгла лампу, потом лампадку под иконами и села. Прислонилась к стене, сгорбившись, а руки утонули в складках подола:
— Спи, мой маленький…
Только-только я закрыл глаза, как слышу: «Ионикэ, где же ты, сыночек… — И еще громче: — Когда ж это все кончится, господи! Дождусь ли?»
…И уже утро. Тетя так и не легла, все ходила по комнате, то прикручивала фитиль у лампы, то снова прибавляла света и что-то бормотала… Видно, ждала — не постучит ли ее Ионикэ раненый? Или, бог даст, цел и невредим придет… Война войной, а о чем думает мать? Только бы сын жив остался! А эта война… Ей только три дня, и никто не знает, чья возьмет… И все равно, — господи, пусть он вернется к маме своей, в дом, где родился… Однако вспомните, как повторяла в поле слова сына: «Хоть и мертвый, мама, от наших ни за что не отстану!..» Разве не гордилась своим Ионом?
— Кто там? — Она уже в сенях, слышно, как лязгнул засов.
— Лелика, ох… я это! Ой, не знаю, что делать, в примарию зовут, лелика!.. Узнали, видно, что плакала там… в поле…
Голос Анны-Марии дрожит. Это она прибежала, запыхавшись, ни свет ни заря. А голос ее ни с чьим не спутаешь — зовущий и настороженный, чуткий — как ушко лесной косули.
Тетя приводит ее в комнату. Молчит… Потушила подслеповатую лампу — накоптила за ночь.
— Донес на тебя кто-то, точно! — наконец выговаривает она. — Неужели это Бану отмочил?
— О, и что на меня нашло тогда, ума не приложу! Ох-ох-ох… — сетует Анна-Мария.