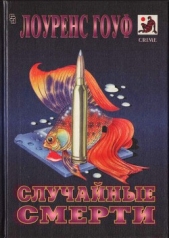Случайные обстоятельства
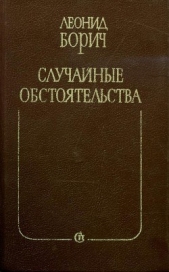
Случайные обстоятельства читать книгу онлайн
Герои нового романа Леонида Борича «Случайные обстоятельства» — наши современники. Опытный врач, руководитель кафедры Каретников переживает ряд драматических событий, нарушающих ровное течение его благополучной жизни. Писатель раскрывает опасность нравственной глухоты, духовного мещанства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Филькина даже появлялось временами ощущение, что он правит лодкой, что это он решает, когда менять курс корабля или сбавлять обороты турбин, потому что и это тоже обязательно шло сейчас через мостик, а значит — через него. Правда, иногда ему вдруг непрошено вспоминалось, что он пока не допущен к самостоятельному несению ходовой вахты и что зачет будет принимать у него лично командир, но все равно: настроение было приподнятым, его не укачивало, это должны были видеть и командир, и старпом, и все моряки. И Филькин любил сейчас этих людей, море, ветер, снежные заряды, которые слепят глаза, любил службу и свою лодку, послушно исполнявшую все его указания. А кроме всего этого радостно было еще и потому, что они шли домой...
В первые недели службы ему это странным казалось: «Идем домой». В его тогдашнем понимании слово «дом» могло относиться к Ленинграду, где жила его мать и где недавно еще жил он сам, или к любому другому городу, но только не к базе подводных лодок. Там для него была только служба, и никому, в конце концов, ведь не было дела, когда вернется не вообще лодка, а именно он, Филькин, потому что никто не ждал его там.
Он мог еще понять тех, у кого в городе была семья, но, когда слова эти насчет дома произносил Редько или Володин, тут ему это было даже странным вначале. Сам он, например, сообщал матери: «Здесь уже довольно холодно, идут дожди... Как там у нас, в Ленинграде?» Правда, спустя какое-то время он уже иначе писал: «У нас выпал снег» или: «А как там у вас, в Ленинграде?» А потом, почти незаметно для себя, Филькин стал говорить как все: «Идем домой», вкладывая теперь в эти слова — тоже как все — не просто понятие берега, но и самый первоначальный смысл дома: дома, в котором живут, откуда уходят в море и куда возвращаются.
Между тем он конечно же не переставал скучать по своему прежнему и все-таки самому настоящему дому, где в последние годы они жили с матерью уже только вдвоем. Отец, навещая их иногда, чтоб повидать сына, всячески подчеркивал достоинства своей новой жены. Она, мол, и внимательна к нему, и так вкусно готовит, и прямо уж до смешного носится с малейшим его капризом, и до того понимает его... Филькин в эти минуты почти ненавидел отца, хотя мама не только приветливо встречала своего бывшего мужа, но даже была довольна — и вроде бы совершенно искренне! — что у него так удачно все устроилось в жизни. До чего же и впрямь он был ей посторонним, чужим человеком, чтобы радоваться, что с другой женщиной он вполне благополучен! Но это Филькин уж потом только понял, повзрослев, а тогда, школьником, он знал по рассказам однокашников из таких же, как его, «неполных» семей, что разрушают-то семью не матери, а отцы, и все никак не мог понять, из-за чего же в их семье наоборот случилось. Тем более всегда ведь слабой, нерешительной, малоприспособленной мать считалась. Отчего же не отец с ней развелся, а она с ним?
«У тебя другой есть?» — спросил он тогда напрямик. Трудно было впервые так по-взрослому спросить, но он, двенадцатилетний, решился. Мама как-то странно посмотрела на него, а потом расплакалась. Никого у нее не было, и, как понял еще через несколько лет Филькин, ушла она тогда не к кому-то, а как бы в никуда. Ушла «от»... Не лю-би-ла... Как просто, понятно, а — не приходило почему-то в голову, что из-за этого не только мужчина, но, оказывается, и женщина тоже, бывает, уходит. Тем не менее одинокой и неустроенной оставалась все же мать — это уж много позже появился в ее жизни Павел Петрович, — и Филькин, как бы в отместку отцу за ее одиночество, стал подумывать, а не сменить ли себе фамилию на материну. Красивая была бы фамилия, как у деда и у дяди-профессора — Каретников, — но мать, когда он поделился с ней этим намерением, решительно вдруг воспротивилась: он же твой отец, и хороший отец; он и мне, наверное, был хорошим мужем.
Маму вообще бывало трудно понять. Павел Петрович, видите ли, до того привязан к своим детям, что просто не может уйти из семьи. Разве что когда-то в будущем, когда они совсем повзрослеют, повыходят замуж... А то, что мама, оправдывая нерешительность Павла Петровича, считала его слабым по натуре человеком, а себя сильной? Это она-то — сильная?! И как только умный, тонкий человек до такой степени может заблуждаться на свой счет?!
Филькину никогда не верилось, что она способна справляться на уроке с тремя, а то и с четырьмя десятками оболтусов. Чувствуя себя единственным ее защитником, он даже поехал однажды к ее школе и долго стоял под дверями класса. По себе и по своим однокашникам он хорошо знал, что так тихо бывало на уроке либо когда по-настоящему любят своего учителя, либо когда его очень боятся. Но кто же мог хоть сколько-нибудь бояться этой хрупкой, негромкой женщины?
После того давнего случая он немного успокоился за нее, но теперь, когда она осталась и вовсе одна, без него, он старался описывать ей нынешнее свое житье особенно бодрыми словами.
Иное дело, когда он писал одной своей знакомой. Писал он ей почти каждый день, и не потому, что она ему очень уж нравилась — доктор и штурман думали, конечно, что это у него серьезно, — а просто надо же было кому-то писать кроме матери, получать еще чьи-то письма (стыдно было бы не получать), ждать их, разгадывать слова, которые неожиданно обретали какой-то особенный, волнующий смысл, а иногда казались почти признанием.
Вот она, мечтал Филькин, она-то и должна переживать за него. Он описывал ей шторма, шквальные ветры, волны величиной с двухэтажный дом, коварные морские глубины, намекал на некие опасности, о которых говорить подробнее не имеет права: не пришло еще время... Впрочем, стараясь показать, что такие героические будни им привычны, он писал обо всем этом чуть небрежно, даже с иронией, и это лишь подымало его в собственных глазах: вот как он может весело и спокойно рассказывать о своей жизни, нисколько не восхищаясь тем, что они совершают здесь каждый день. Наоборот, он вроде бы посмеивался над этим и оттого сам казался себе мужественным, волевым и опытным моряком, какими были для него командир, механик, штурман.
Чем, однако, насмешливее писал он ей о своей службе, все же не умея спрятать своего уважения к тем людям, с которыми плавал, да уже и к самой этой службе, тем почему-то ласковее становились ее письма, и беспокоилась она за него все больше и все откровеннее. Это было приятно, он еще охотнее отвечал ей, и ему казалось, что он понемногу начинает даже влюбляться. В последних своих письмах он стал дописывать в конце: «Целую», — она вроде не заметила такой его вольности, а потом — перед самым их выходом в море, о чем он, конечно, намекнул ей словами «теперь долго не смогу отвечать», — она вдруг тоже написала: «Целую».
Вот как далеко зашли они в своих отношениях! Порой даже страшновато делалось, и Филькин подумывал, что поздно теперь останавливаться, наверно. Да, пожалуй, и не хочется. Вот только дождаться бы отпуска, приехать, прилететь в новенькой, отлично сшитой тужурке, знать (и чтобы другие тоже об этом как-то узнали), что ты теперь не просто молодой лейтенант, только выпущенный из училища, а штурман, у которого за спиной тысячи подводных миль, все время помнить — хотя бы для себя, — что ты плаваешь на атомной лодке, ходить по городу, приветствуя старших с тем изяществом, которое дается не вообще службой, но еще и морем, открыто, не таясь, смотреть на красивых женщин и чувствовать себя в этом городе немножко завоевателем...
Смущало только, что, чем дольше была разлука, тем труднее представлялось ее лицо, и, вспоминая, он вспоминал теперь как-то вообще: не ее именно лицо или голос, а нежное, милое лицо женщины или приятный, ласковый голос женщины, и лицо это и голос могли быть — и бывали — разные, не одни и те же, напоминая уже когда-то виденных им женщин, которые нравились ему издали и которых он провожал иногда, зачарованно плетясь следом и не смея никак подойти, потому что он был тогда еще совсем мальчишкой, курсантом с золотыми нашивками, а они — недостижимо взрослыми, загадочными и недоступными для него женщинами, лет на десять — пятнадцать старше, и взгляд их даже не задерживался на нем, скользил мимо, как будто действительно все важное или хотя бы просто интересное только и начиналось где-то там, за его спиной.