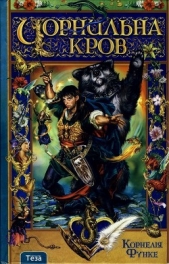Потерянный кров

Потерянный кров читать книгу онлайн
Йонас Авижюс — один из ведущих писателей Литвы. Читатели знают его творчество по многим книгам, изданным в переводе на русский язык. В издательстве «Советский писатель» выходили книги «Река и берега» (1960), «Деревня на перепутье» (1966), «Потерянный кров» (1974).
«Потерянный кров» — роман о судьбах народных, о том, как литовский народ принял советскую власть и как он отстаивал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Автор показывает крах позиции буржуазного национализма, крах философии индивидуализма.
С большой любовью изображены в романе подлинные герои, советские патриоты.
Роман «Потерянный кров» удостоен Ленинской премии 1976 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Чтоб их сквозняк, господин начальник! Я же литовец все-таки, не еврей, как же я с ними пойду?.. — Культя скулит, как собачонка. К стыду и угодливости униженного человека добавляется страх.
— Так чего пришел, Путримас? — Адомас совсем отмяк. — Подойди поближе, выпей рюмочку.
Культя униженно благодарит (о, он давно знал, что у господина Адомаса золотое сердце!), но в сторону стола — ни на пядь.
— Видите ли, хозяева, дело такое… Я насчет земли… Хм… хм… — лепечет он, стреляя глазами в стороны. Поведение господина начальника полиции ободряет, зато у Катре такая рожа, что по спине мурашки бегают. — Сами знаете, землю я обработал, своим зерном засеял. По закону новых властей вы можете мне кукиш показать, и я еще благодарить должен. Закон есть закон. Но можно ведь по-соседски договориться… Хм… хм… по-христиански, не обижая друг друга. Ну, как в былые годы испольщик с хозяином договаривался. Одному половину урожая за работу да семена, а другому вторая — за землю…
Культя разошелся — выражение лица господина Адомаса кое-что обещает. Если и не обещает, то хоть позволяет на что-то надеяться. И впрямь — как еще распутать весь этот узел? Культя разевает рот, решив окончательно рассеять сомнения, если они еще остались у господ Вайнорасов, но его опережает хохот Катре. Злобный, презрительный, ликующий. Мимо грохочет поезд, набитый хохочущими безумцами.
— Он явился… Явился, чтоб нам милость оказать!.. — Катре наконец обрела дар речи, но спинка скамьи все еще трещит под напором судорожно дергающегося тела, руки хлопают по бедрам, как крылья разозленной наседки, глотка хрипит, не хочет вдыхать воздух — ведь им (как несправедливо устроен мир!) дышит и этот черный бандит у двери. Впалые щеки Катре позеленели, как лужайка, узкое лицо вытянулось еще больше. На приплюснутом носу торчит украшенная волосами бородавка. — Его, вишь, работа да семена… Вы только послушайте этого хапугу-расхапугу, ублюдка несчастного! Свинья свиньей! Его семена! А от кого ты, поганец, получил зерно, ежели не от большевиков? А большевики — пускай они подотрутся своими рублями! — у нас отобрали. Ишь, своим зерном засеял чужую землю. Вот так та́к!.. Уйди с глаз долой, брехун паршивый! — Катре вскочила, смахнула локтем со стола тарелку, а Культя — пулей в дверь.
Во дворе добродушно ворчит пес. Назло Катре, даже хвостом помахал Культе. А у того так и чешутся руки погладить Рыжика — единственного обитателя хутора Вайнорасов, которого он любил, — но лучше не дразнить людей в эти смутные времена.
— Рыжика — в мешок да в реку! — кричит Катре. — Когда нас не будет дома этот бандит все добро растащит!
Долго никто не решается сказать ни слова. Особенно приуныли Юргис и Юсте: мать строго-настрого запретила им водиться с голоштанниками. А после того, что случилось сегодня, боязно будет даже издали посмотреть на избы Черной Культи или Пуплесиса.
Адомас вешает мундир на спинку стула. Солнце шпарит прямо в глаза. Жарко.
— Вы, мама, иной раз уж слишком язык распускаете, — недовольно говорит он.
Катре удивлена. На лицах у остальных одобрение. Аквиле услужливо наполняет братнину рюмку.
— Не хочу, чтоб побирушки на шее ездили. Прошло их время.
— Да незачем и к ним на шею садиться, мама. Из-за нашей злополучной жадности губим дело нации.
— Культе шкуру надо было продубить. Чтобы на глаза не лез, знал свое место.
— Если начнем мстить друг другу, конца не будет. Перерезать всех нетрудно — не так нас много, литовцев-то.
— Черная Культя — литовец? Тьфу!.. Чтоб они подохли, такие литовцы.
— Большевики задурили голову своими обещаниями. Таких заблудших овец у нас тысячи. Если пропустить их через веялку, полнации отсеется. Нет, так не годится, мама. Мы должны привлечь их на свою сторону. А если все будут поступать, как вы, мама, ничего путного не выйдет.
— Заведешь свое хозяйство, вот и разбазаривай его нищим, сколько душе угодно. Я не так богата. — Катре пыжится, как индюк. Она обижена и оскорблена — родной сын ее учит.! — Юсте, тащи-ка трубочку!
Адомас встает, благодарит за обед. Настроение у всех окончательно испорчено.
— Поваляюсь часок в саду под яблоней. Очень уж напотчевали.
Катре дымит своей трубочкой. Холодная, неприступная, как горная вершина. Истинное воплощение оскорбленного материнского достоинства. «А мне-то что, валяйся хоть на куче камней во дворе».
Аквиле выбежала вслед за братом, несет подушку.
Сад звенит от птичьих голосов. Сквозь переплетение ветвей, облепленных поспевающими ранними яблоками, проглядывает голубое небо. То тут, то там белое облачко. Хорошо отдыхать в такой день в саду родного хутора, под яблоней, которую посадил сам, и чувствовать, как рука любимой сестры гладит твои волосы.
— Ты — янтарь, а я — деготь.
— В тебе больше материнского, а я весь в отца, лапочка.
— Нехорошо так говорить, но я не люблю мать.
Тяжелый человек. — Адомас закрывает глаза, словно стесняясь своей откровенности. — Хочет держать нас всех, как собак, на цепи. Я-то никогда ее не любил, только боялся.
— Адомас…
— Что, Аквиле?
— Ты хороший… — Она наклоняется, целует его в лоб. — Такой милый, родной без этого… казенного мундира. Мой чудный, прежний Адомас.
Дурацкая сентиментальность! Он через силу улыбается и переворачивается на бок.
— Ночью что-то недоспал. Оставь меня, сестричка.
Аквиле встает, несколько мгновений борется с собой, потом снова опускается на корточки рядом с братом.
— Адомас, ты знаешь доктора Гинкуса.
— Ну и что?
— Вы хорошие друзья.
Адомас ложится на спину. Ладони под головой, локти широко раскинуты. На лице больше чем простое любопытство.
— Друзья. И что с того?
— Видишь ли… — Она долго смотрит ему в глаза. Чувство такое, словно ты над пропастью. Но иного выхода нет, приходится шагнуть вперед. — Я хотела бы, чтоб это осталось между нами. Обещай никому не рассказывать.
Адомас растерян и озабочен. Ага! Вот какие дела, лапочка… Он так и думал, что между ней и Красным Марюсом было нечто большее, чем невинные поцелуи. Успокойся, сестричка, не стоит из этого делать трагедии. Доктор Гинкус охотно поможет, мышь не пикнет, все шито-крыто. Робертас умеет молчать, к этому его обязывает профессия.
Аквиле качает головой. Нет, нет! Марюс здесь ни при чем.
Адомас не слушает. Сел, хрустит пальцами. Покраснел не от водочки — от ярости. Сестру опозорил! Изменник, продажная шкура!.. Ее смешал с грязью, но не меньше позора и на нем, родном брате!
— Прихлопнули, как собаку. И ладно! Таким место только в могиле.
Но Аквиле не понимает, о чем он. Все ее мысли там, с несчастным одиноким человеком. Здесь, под этой плодоносящей яблонькой, решается вопрос его жизни.
— Ты не понял меня Адомас. — Аквиле стоит перед ним на коленях. Прижала кулаки к груди, щеки посерели, побелевшие губы шепчут, словно ксендзу в окошко исповедальни. Исповедь. Слова трепещут, как связанные птицы. Что будет, если не отпустит грехов?
Глаза Адомаса расширяются, лицо то краснеет, то бледнеет. Он не верит своим ушам. Сон, обман! Опирается руками в землю — душистая, живая трава. Встает, оглядывается: вокруг родной сад, над головой высокое летнее небо. Ужасная действительность!
— Он бы поправился, но что-то случилось… Бред… в слюне кровь… Помоги, Адомас, ты можешь помочь… — струится молитва.
Адомас стоит, согнувшись в дугу. Одной рукой уцепился за сук яблони, чтоб не упасть.
— Почему молчишь? Ты должен понять, я не могла оставить человека умирать в лесу!
— Мертвые не умирают. — Он это сказал или ей послышалось? Нет, это его голос. Холодный, бесчувственный, как рука мертвеца.
— Ты сердишься на меня, брат?
— Нет, радуюсь. — Его голос снова ожил, вернулись прежние краски, темные полутона гнева сменяет насмешка. — Ты могла бы и похлеще придумать: прибить над сеновалом вывеску, что здесь лечат большевистских солдат.
— Лежачий не враг. Ты сам когда-то это говорил.