Мы вышли рано, до зари

Мы вышли рано, до зари читать книгу онлайн
Повесть о событиях, последовавших за XX съездом партии, и хронику, посвященную жизни большого сельского района Ставрополья, объединяет одно — перестройка, ставшая на современном этапе реальностью, а в 50-е годы проводимая с трудом в мучительно лучшими представителями народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ох, по-моему говоришь, по-моему! Тоже не один раз слыхал про это. Нет, мене пужать не надо. Я пужаный, я на целину когда поехал, нагляделся, натерпелся всего, ничего, не пропал, вкалывал дай бог, всегда впереди всех был. Тогда никто не пужал.
Валька убрала тарелки, поставила посередке стола большую сковородку с рыбой. Пожарила в каком-то соусе, не сухая рыба получилась, а в подливке, сочная и вкусная и чуть-чуть поджаренная с боков. Умеет. Это уж с Сибири, наверное!
— Ну берите еще, — уговаривает Валька. — Ты ж, Сережа, почти не ел.
— Все, теть Валь, не лезет больше.
— Хороший кусочек найдет себе уголочек.
— Ну че пристала? Сам он знает — хватит или не хватит… Может, чайку по стаканчику?
Разлили чай, свежий заварила Валька. Стали пить.
— Паш, — Валька попросила мужа, — поставь пластинку, может, послухаем.
Пашка поднялся в Валькину комнату. А когда вернулся, сразу взяла за душу скрипка. Раздирает душу, жилы выматывает.
— Крейцеровая соната, слухайте.
Ну пошло, ну повело. Зарыдала, забилась скрипка. И правда, заплакать можно. Чай остывает, слушают. Пашка на этот раз вроде не слушал, а показывал, поэтому особо-то не расстраивался, он все следил за Сережей, а тот онемел.
— Тут вот что непонятно, — заговорил Пашка. — Слышишь: мучается душа или человек там, может женщина какая, мучается, колготится, бьется во все стенки, а выходу не найдет, нету выхода. Вот бьется, бьется, а потом ну прямо рыдать начинает. Что ж тут хорошего? Человек пропадает, гибнет на глазах. А тебе хорошо. Почему хорошо? Чего тут хорошего? Вот не пойму. Слухаю сколько, а не пойму. Судьба такая. Деться некуда. В энту сторону кинется — нету дверей, в энту кинется — нету. И что же? Падает, плачет, рвет душу. Вот что делает! Выколачивает всю грязь из души. А мы, дурачки, ну мы не виноватые, ничего этого даже не подозревали. Для нас этого не было́. Теперь хочь и поздно, а открылось. Че ж мене не радоваться, раз открылась такая жизнь?
— Давайте на другую сторону переверните, — сказал Сережа.
— Другая сторона чудок похуже. Не было́ бы первой стороны, можно вторую слухать, а после первой вторая чудок похуже. Уже не то. Другой раз я тебе поставлю сразу вторую сторону. А счас ты эту запомни. Ну что, покурим?
Вышли за ворота. Под навесом винограда сели в беседке. Закурил Пашка, сходил в дом, вынес игрушечную клетку из серебристой проволоки, а в клетке сидит на жердочке птичка, соловей. Повесил клетку на передней стенке дома, на фасаде, и вот только дошел до беседки, как залился, зачвикал, защелкал этот соловей. Сережа оглянулся. Поет. Ты ж гляди, поет! Чистый соловей. Вот чудеса. Перестанет, помолчит и снова зальется, защелкает. Сколько колен делает! Как живая.
Пашка зубы показывает. Ухмыляется.
— Батарейки у меня кончились, а то сяду вот тут, а он поет, идут люди — останавливаются. Слухают. А че, я люблю это дело. Как увидал в магазине, так сразу зацепился. И самому на душе хорошо.
— Да, как живая. Вот такой бы на Север. Не знал, что продаются такие. А то б на бульдозер поставил. Здорово.
— Я на этих бульдозера́х работал. Правда, больше на тракторах. На целину поехал по путевке. С первых палаток. Все прошел. Сколько раз выдвигали, не, не пошел. Если б пошел, сейчас бы директором уже был. Иди, говорит, бригадиром. Нет, не пойду. Ты ж работаешь хорошо, люди тебя уважают, иди. Пошел. Стал бригадирить. Ага. Дальше стали выдвигать. Не, не пойду. На курсы? Не, не хочу начальником, и все. И с бригадиров ушел. Энтот напился, энтот прогулял, а ты бегай, за всех отвечай, не, это не для меня. Ушел. А то стал бы давно директором. Нагляделся я их. Я и директором бы хорошим был, все люблю хорошо делать. С целины я ж сразу сюда вернулся. При старом директоре строителем пошел. Меня бригадиром поставили, опять выдвигают. Ладно. Работаем. Как? То песку не подвезли, то цементу, кирпича нету. Пришли люди рано на работу, а кирпича нету. Иду к директору. Нельзя ж так работать! Ну, скажет он кому. Один раз поправит, подтолкнет — пошли. Потом опять то же самое. Не, думаю, тут не заработаешь и людей распустишь. Ушел из бригадиров. Я тогда уже «Запорожца» купил. Директор говорит, иди на ферму заведующим. А ферма далеко, ночевать там надо. Только в субботу домой. Не-е-е. Я жить хо́чу. Я не жил еще. А тут всю неделю гдей-то в казарме. Зачем же мне «Запорожец» и все другое? Нет. Не пошел. А тут главный врач пристал. У нас больница. Иди заведующим хозяйством. Кабинету тебя свой, хозяйство. Насулил. Пошел. Ага. Комбикорму нет, негде выписать, того нету, того нету. Никакого приварку. Нет, не для меня. Я ж хо́чу независимо жить. Чтоб все дома было́. А чем кормить птицу, поросенка? Нет. Ушел в этот рыбхоз. Сейчас живу нормально. Видал, может, нашу Доску почета?
— Видал. — Сережа вспомнил эту громадную доску, длинную, и на ней портреты передовиков, Пашкин портрет висит рядом с другими. — Вида-ал.
— Если мне хорошо, я жилы выну из себя, а сработаю, не пожалею сил. Там у меня получается. Я сперва этого директора нового не разобрал. Я ж при новом ушел в рыбхоз. Гляжу, чего-то лошадей покупает, вон конную школу открыл, скачки начал устраивать. Ну, думаю, у каждого свои чудинки, у этого лошадиные. Это попервах. Ушел я, а теперь вижу, не-е, это другой человек. Умеет. И лошади — это хорошо, по-крестьянски. На ферме, в детском саду, на подвозке в столовую, и там у него лошади, не дымят эти трактора детишкам в садике или на ферме, все чистенько, меньше коптят и по селу. Трактор пашет, косит, сеет, убирает. Там ему место. Вижу, мужик с головой. И конная школа. Ребята так взялись за коня. У него у самого сынок, двенадцати годов, первое место по району взял на скачках. А пацаны наши без ума от этих скаковых лошадей, с конюшни не уходят. Вот, думаю, мужик. И правда, сейчас бы ни за что не ушел от него. Но теперь передумывать уже вроде поздно. В рыбхозе мне тоже неплохо.
Бросил сигарету Пашка.
— Ну, может, хватит этому соловью стараться, нехай отдохнет, а то батарейки кончутся.
5. Новый директор
Что можно сказать о новом директоре? О Михал Михалыче? Не очень еще хорошо научился сидеть в директорском кресле. Почему? А потому, что все время при разговоре вроде как подпрыгивает, будто кто-то подталкивает его изнутри. Не может он сидеть, не научился. Директор должен вливаться в кресло, как в форму, заполнять его собой и держаться остойчиво, а этот… нет, не умел сидеть в кресле. Вставал он рано, в шесть часов, то есть в шесть он уже был в конторе. Какие-то минуты на размышления, просмотр бумаг, потом летучка. Докладывают специалисты план на день, недоделки вчерашние и так далее. В девять часов планерка. Отчитываются начальники цехов, начальники производственных участков, главный экономист, главный энергетик, главный бухгалтер, управляющий отделением механизации. Потом уезжает Михал Михалыч в поля, на фермы, производственные участки. Бывает, в город по вызову, редко в край по вызову краевого начальства, на раздобычу дефицитов в окрестные города, в свой город, к соседям. Словом, больше на колесах, чем в кресле.
К этой непоседливости Михал Михалыч приспособлен самой природой. Он крепко сбит, плотен, подвижен, все у него в устройстве фигуры приспособлено к быстрому движению, никаких острых углов. Голова круглая, плечи круглые, весь круглый, при движении ничто ему не мешает, даже волосы не мешают, они плотно лежат вокруг крепкой, еще молодой залысины, низко подстриженные.
Мир, где завертелся теперь Михал Михалыч, представлял собой нечто совершенно неустойчивое, не стабильное, а очень и очень подвижное, подверженное постоянным изменениям, перестройкам, экспериментам, починам, всевозможным пробам и новациям. Тут гляди да гляди, чтобы не отстать от дела. Но к этому как раз Михал Михалыч уже был подготовлен. Неподвижным было у него разве что детство. Рос под степным солнцем, купался в речушке, почти пересыхавшей летом, ловил там раков, рыбешку, в горячие дни уборки работал в степи, бегал с пацанвой по томузловским садам, ездил на велосипеде и страшно любил лошадей. Тогда казалось, конца этому степному детству не будет. Но окончил школу — и пошло, поехало. Темп убыстрился. Уехал в Ставрополь в сельскохозяйственный институт, думал стать зоотехником. Может быть, и ученым-зоотехником. Поближе к лошадям. С отличным дипломом вернулся в свою Томузловку. Поставили начальником производственного участка в родном колхозе. Из Ставропольского кооперативного техникума в ту пору приехала практикантка. Понравилась. Женился. Тут вроде жизнь должна бы приостановиться. Нет. Стали ездить из горкома, сманивать на комсомольскую работу. Даже из крайкома приезжали. Думал, думал, нет, не согласился. Отбыл армию, вернулся на старое место. И снова приезжают, уговаривают. Сперва соблазнили в краевую школу передового опыта комсомольского актива. Закончил школу. Куда теперь денешься? Пошел в горком комсомола. Сперва вторым секретарем, потом первым. Не успел обжиться, давай в Москву, в Высшую партийную школу. Уехал. Вернулся через два года. Перевели в горком партии, инструктором по сельхозотделу. Он не знал, что его уже готовили к нынешней директорской должности. Дело в том, что к этому времени первым секретарем горкома партии тоже пришел «комсомолец», бывший первый секретарь краевого комитета комсомола. Стал смотреть кадры. Не по нему как-то. Надо омолаживать село.



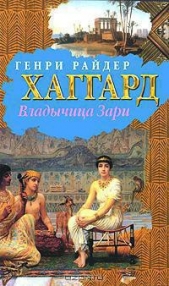
![Роботы зари [Роботы утренней зари]](/uploads/posts/books/10880/10880.jpg)




















