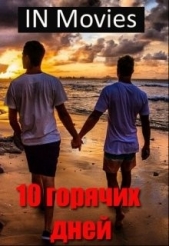Кик

Кик читать книгу онлайн
Роман «Кик» создан писательницей в конце 20-х годов и неразрывно связан с ее боевой журналистской деятельностью тех лет, периода начинавшегося социалистического строительства, первых пятилеток, острых дискуссий о путях дальнейшего развития страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну как, подымать?
Женщина сконфуженно глотает слова, и на скулах два кирпичных пятнышка.
— Я дала им письмо… От прежних хозяев квартиры, их родственников. Они говорят, что не понимают, как можно посылать в такое время чужого человека. Уверяют, будто каждую минуту обыск… Удивительно трусливые и странные люди.
Мужичонка, ни слова не говоря, встал и опять накинул мешок на плечи.
— Теперь куды?
Женщина смущена, дрожит от стыда и неловкости. Ей хочется рассказать кому-нибудь все очень подробно, и, шагая рядом, она описывает мужичонке, как ее разглядывали через дверную цепочку, как пожимали плечами, как грубо отвечали на вопросы. Перед вторым домом, на этот раз деревянным, в глубине тупичка, она мнется с минуту, потом решается.
На стук никто не отворяет. Из противоположной двери высовывается голова. Крикливый голос: «Куда вы ломитесь! Их нет никого. Выселены!»
Опять ночь, мокрота, темнота, покорная спина мелкозубого мужичонки с качающимся мешком, — но усталость перебита, ноги идут сами собой, сонливость прошла, в висках стучит лихорадка.
Славная, светлая передняя первого этажа, куда они оба вступили вдвоем. Перед ними девочка в бумазейном переднике, с платком на плечах. Глаза у девочки открытые и честные. Она изо всех сил убеждает женщину остаться.
— Мама вот сейчас, вот сию минуту! У нас эта комната не отапливается, но папа привез четыре пуда газеты, я могу вам нагреть… Мама как обрадуется, раздевайтесь, раздевайтесь!
Девочка стягивает с нее шинель. Мужичонка нерешительно кладет мешок в угол.
— А то в случáе чего, — шепчет он, делая ударение на «ча», — есть тоже эвакционный пункт, там переночевать можно.
Женщина, выйдя из шинели, оказывается худой, слабой, жидковолосой и неопределенных лет. Она быстро кидается к мешку, оттягивает веревку и сует мужичку большой круглый хлеб.
— Погодите, я вам отрежу сала.
— У вас есть сало! Счастливица! — вскрикивает девочка.
Женщина отрезывает кусок мужичонке, потом девочке. Ломтик кладет себе за щеку. Начинает согреваться. Но когда за носильщиком захлопнулась дверь, она невольно пугливо оглянулась. Передняя в этой квартире нарядна и велика. Обои под дуб. Вешалка дубовая, на стене какие-то рога и охотничьи трофеи, возле трюмо на столике шляпы, в углу — калоши. Все это существует и стоит на месте.
— Мама! — вскрикивает девочка и несется во внутренние комнаты, где хлопнула дверь. Проходит минута, другая, пять минут, никто не показывается. И наконец очень медленной походкой в комнату входит плотная, рыжая женщина с грязным цветом лица. Бровки у нее мышиного цвета и кажутся обкусанными, губы поджаты. Подойдя к приезжей, она молча осматривает ее с ног до головы.
— Я удивляюсь… (голос сквозь зубы);
— Мария Афанасьевна просила вам передать это письмо…
— Я удивляюсь (письмо остается в руке приезжей, потому что хозяйка отказывается его принять), как вы могли, в мое отсутствие, воспользоваться наивностью ребенка… Я удивляюсь, если вы интеллигентная женщина…
— Но куда же мне деться? Ваша дочь так настаивала, что я отпустила носильщика…
— Странно! Как она могла настаивать, если ей запрещено даже отворять дверь в мое отсутствие!
— Но Марья Афанасьевна…
— Я не знакома ни с какой Марьей Афанасьевной. А если б даже была… Я вас убедительно прошу очистить мою квартиру.
Вместо того чтоб оскорбиться, ответить презреньем, уйти, приезжая делает жалкие попытки остаться как-нибудь, под каким-нибудь предлогом, хоть одну ночь. Начинается длинный торг: приезжая уверяет, что у нее есть все документы, что она завтра утром найдет комнату, что ей бы переночевать хоть в передней, топить не надо, у нее есть мех. Но с другой стороны — твердые возражения принципиального свойства. Ссылка на Алексея Ивановича, жильца. Алексей Иванович является в конце разговора. Он — толстый, бритый, хмурый, с привычкой чесать поясницу.
— Вы утверждаете, что вы музыкантша? Но, товарищ, когда так, вы обязательно можете устроиться на полном пансионе. Идите немедля на Сухую улицу, дом номер пятьдесят два. Там специальное общежитие. Можете сослаться на меня, что послал журналист Санин. Торопитесь!
— А где эта Сухая улица?
Вопрос действует успокаивающе. Санин снизошел до того, что чертит на бумажке план. Хозяйка вдруг вытаскивает за веревочку из коридора доску, набитую на полозья.
— Мадам, я готова чем могу… Вот возьмите санки, чтоб довезти свои вещи. Но убедительно прошу, завтра завезите обратно.
Где-то теперь тихий и рассудительный мужичонка! Он говорил об «эвакционном» пункте, но искать его сейчас нечего и думать. Ночь перешла на вторую стадию, когда воздух наполняется темным шепотом рос, на стенах и камнях выступает испарина сырости, вокруг незримое движенье, похожее на таинственную перемену декораций за занавесом. В эти минуты сон человеческий прерывается кошмарами. И в эти минуты она идет, как лунатик, передвигая бесчувственные ноги, неизвестно куда, волоча за собою на веревке громоздкие санки с мешком. А в мыслях только одно: сало. Она впопыхах оставила весь кусок своего сала у них на стуле. Вернуться обратно? Взять завтра? А если не отдадут? Тогда она не вернет им санки…
Сухая улица неожиданно из поворота блеснула на нее целым снопом света. Ясно и отчетливо горел номер пятьдесят два в освещенном фонаре. Качался фонарь над подъездом, светились стекла в подъездной двери, и окна первого и второго этажа были освещены. На стенах виднелись афиши, извещавшие о диспуте… Поднявшись на ступени, обрадованная светом, она принялась стучать изо всей силы. Но и это оказалось не нужно: дверь была лишь притворена и тотчас же поддалась, открывая светлый путь наверх, по красной ковровой дорожке. Дом был старомодный. Вверх шла лестница, а по обе ее стороны отходили в глубину большие прихожие, с белыми голландскими печами во всю стену, справа и слева. Обе печи, щедро упитанные березой, трещали сейчас, как целый хор сверчков. На скамейке сидел швейцар или нечто вроде швейцара. Он поднял голову.
— Будьте добры… — начала она и запнулась. Уже давно она приготовила карандаш и бумажку, где сейчас, прислонясь к нагревшейся печи, нацарапала несколько слов, — будьте добры, снесите это кому-нибудь, кто еще не спит. Я приезжая, музыкантша… Меня направили к вам в общежитие.
Сторож посмотрел на бумажку, потом на нее. У него был сытый и сонный вид. Уже хотел он сказать что-то безразличное и безнадежное, но вдруг — нечаянно — увидел, как стояла перед ним женщина. Она стояла не прямо. Колени ее гнулись, гнулись под прямым углом, гнулись, как у старой извозчичьей лошади с перебитыми ногами. Лошадей он перевидал на своем веку, и что-то похожее на испуг мелькнуло в стеклянных глазах.
— Положь, положь бумажку, — зашептал он, сразу перейдя на «ты». — Уж я понесу кому надо. А ты иди покеда за мной, — идти-то не трудно ли? Недалечко тут, по лестнице, на мягкую небель посажу тебя, да и выспишься ты за милую душу. Давай мешок. Эх, и жизнь ваша!
Он шел по бархату лестницы, она за ним. Перед дверью остановился, из обшлага достал ключ, отпер угловую и впустил ее куда-то, где было темно, душно и затхло, но зато тепло.
— До завтра записку твою читать некому. Спи с богом. Чего надо, в коридоре за углом. Да смотри, виду не кажи, что ты здесь, не то нагорит мне за тебя.
Он торопился сделать доброе дело, тем более что дом этот, комнаты, мягкая мебель, ковры, даже ключи за обшлагом — все было сейчас бесхозяйское, потерянное, дешевое, вроде приснившегося во сне магазина с товаром, за который никто ничего не платит. «Дать человеку по-пользоваться-то, хушь на ночь», — думал он про себя, спускаясь по лестнице не прямо, а чуть набок, — привычка, усвоенная еще в ту пору, когда он носил длинную с галунами ливрею.
Женщина, оставшись одна и в темноте обвыкнув, увидела себя в очень тесной и густо заставленной комнате, в давнее время носившей название «штофной». Каждый звук, возникавший в ней, умирал в первую же секунду, капнув и поглотившись — как влага песком — жирными, губчатыми, плюшевыми обоями, ковром, портьерами и мебельной обшивкой. Вся комната казалась насыщенной этими провалившимися звуками. Женщина начала стаскивать ботинки, бросила их, — звук умер, не родившись. Чувство безопасности овладело ею. Она поверила наконец в прочность этого жилья, в прочность отдыха, но тотчас же, как поверила, вскочила с места: к ней шел поток чужой, яркой и громкой жизни, шел из щели в стене, образованной от неплотно натянутого плюшевого щита портьеры над неплотно притворенною секретною — под обивку стены — дверцей. Подойдя к щели и заглянув в нее, женщина увидела перед собою длинный большой зал строгого классического стиля с лепными карнизами и нишами в кариатидах. Зал, уставленный столиками, шумел сейчас, подобно морю. Сотня разодетых и веселых людей перекликалась, рассаживалась, прогуливалась, здоровалась, чокалась, ела что-то с тарелок, дымившихся на столиках. Это было так странно и так необычайно для того мертвого города, в котором она еще полчаса назад бродила, что женщина забыла усталость, села на пуф возле двери и принялась смотреть в щель.