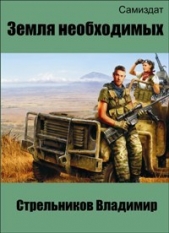Родня

Родня читать книгу онлайн
Новое издание челябинского писателя, автора ряда книг, вышедших в местном и центральных издательствах, объединяет повести «Хемет и Каромцев», «Вечером в испанском доме», «Холостяк», «Дочь Сазоновой», а также рассказы: «Фининспектор и дедушка», «Соседи», «Печная работа», «Родня» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не скоро еще? Может, мы тогда уж старики будем?
— Да нет, — сказал он. — А вообще-то, чего ты у меня спрашиваешь? Ты меньше меня знаешь?
Я не ответил. Меньше не меньше, а этого я не знал.
— Послушай, вот если человек сам ничего не открывает и признает только то, что признали другие, что это за человек?
Он подумал, придерживая очки.
— Не знаю, — медленно сказал он. — Это, наверно, просто ленивый человек.
«Странно, — думал я, — странно, Гумер ленивый. Он же всегда был впереди, все ему удавалось. Мне сейчас не удается — нет, не впереди быть, а хотя бы… помочь человеку до того, как ему станет очень уж плохо».
Мы медленно двигались по улице. Вечер свежел, но еще не темнел, еще было закатное солнце, в чистых и спокойных лучах его тополя были зеленее и моложе. Ветер никуда не мчался, не шумел, он шептал в тополях.
Ни один бузила не попадался нам, даже из ресторана выходили на удивление трезвые люди.
Выпивший все-таки попался. Это был Панька, мы увидели его издалека. Он шел весело, взмахивая руками, как будто приплясывал. Пошатываясь, он подошел к нам, и на лице у него была косая улыбка.
— Ты что, ты что! — шепотом заговорил Дударай, беря Паньку за плечи и не давая ему шататься. Судя по его строгим очкам, он не разрешил бы Паньке и улыбаться.
Панька сказал, что он от Василия Васильевича, что был разговор и как будто все налаживается, потому что он оказывает влияние на тестя. Слушать его было невесело, потому что второй день Василий Васильевич не выходил на работу и сегодня вот продолжал «хворать» вместе с Панькой.
— Ну, идем с нами, — сказал Дударай, и мы подвели Паньку к его калитке. Панька намерен был долго прощаться, но мы втолкнули его в калитку.
Время дежурства истекало.
— А ведь мы предотвратили скандал! — гордо сказала девчушка из формовочного. — Если бы мы не довели Уголькова, он бы вовсе напился где-нибудь. И скандал…
— Ничего мы не предотвратили, — внезапно перебил ее Дударай. Девчушка сразу замолчала.
Город спал, когда мы, пройдясь напоследок по центральной улице, разошлись каждый в свою улочку.
Небо густо усеяли звезды. Зябко и вяло пахло мокнущими в реке талами, горячо и резко — степной полынью и молочаем.
Я осторожно открыл калитку и вошел во двор. Расплывчато белел возле забора дедушкин камень. Я подошел к нему, потрогал, он был гладкий и теплый. Я сел, но не на камень, а рядом, на густую гусиную травку. Травка была еще не влажная, но прохладная.
Тут же я услышал голоса по ту сторону забора и оцепенел. Потом я почувствовал себя так, точно весь разваливаюсь, отдельно руки, ноги…
Я с трудом поднялся и, нисколько не беспокоясь о том, что меня могут услышать, шагнул к забору. Душным сырым запахом пахнуло из сада.
— …нет, не все! — сказала Дония.
— Нет, все, — сказал Гумер. — И я не верю, и мне никто не верит. Даже ты. Ну, хочешь… Перед тобой я виноват! А больше ни перед кем. Ни перед кем не хочу быть виноватым… Эх! — вздохнул он отчаянно.
За забором зашуршало, и Дония сказала:
— Пусти, больно.
— Умчать бы тебя в степь… от всех, от всего! Уедем, а?
— Не умчишь, — сказала Дония. — Если не захочу, не умчишь.
Я не понимал, шепотом они говорят или в полный голос. Я не понимал, как это после всего, что было между ними, они еще могут говорить.
— Уедем, а? Если бы ты знала, что я могу!
— Я знаю, — жалобно сказала Дония.
— Знаешь… а не веришь! Ты стала совсем другая. Все по-другому.
— Я верю, — сказала Дония. Она надолго замолчала, но так, что и я, и, наверно, Гумер знали, что она продолжит именно это начатое.
Она повторила:
— Я верю… Иди ко мне.
Я не понял, почему она сказала: «Иди ко мне». Что, разве они стояли далеко друг от друга?
Потом голос ее стал таким, словно Гумер мчал ее по степи и она задыхалась в ковылях…
Я отпрянул от забора и, сделав несколько широких прыжков, очутился в сенях.
В комнатке было душно, окна закрыты. Но я лежал не ворочаясь, не шевелясь. Окна стали светлеть. Гумера не было.
Несколько дней стояла сухмень и было слышно, как далеко в степи ходили громы. А однажды и у нас хлынул дождь, а потом всю ночь гремело и, не переставая, горели молнии. И дождь лил, лил; казалось, река раздвинулась и катится уже возле окон.
Утром я шел на завод и встретил Донию.
Ветер пошатывал белую заволочь мелкого вялого дождя. Реку вспучило, и мутная, какая-то слепая, нездешняя вода была там, где мы загорали с Донией.
Я был в резиновых высоких сапогах и поднял Донию на руки. Когда я нес ее уже по мосткам, у меня заколотилось сердце от испуга, что не просила же она ее нести и могла рассердиться. Но она молчала и равнодушно держалась холодной рукой за мою шею.
На берегу я опустил ее.
— Ты на меня сердишься? — спросил я.
— За что?
— А твоя мама на всех нас сердится.
Дония не стала отвечать.
Вообще-то тетушка Гульниса хотя и таила, конечно, обиду, но уже заходила к нам. Разговор был о свадьбе. Меня удивило, что после всех проклятий нашему дому она все-таки пришла к нам. Но это, по-моему, в отместку мужу. Я слышал, как Шавкет-абы успокаивал жену: «Ну ладно, ладно. Решится как-нибудь. Там у них коллектив. Чего шуметь?» — «Коллектив! — возмущалась тетушка Гульниса. — Коллектив, что ли, породил твою дочь? Скоро себя самого бояться будешь!»
Это, пожалуй, было не совсем точно. Шавкет-абы был не трусом, а очень спокойным. Может быть, когда-то он боялся всего, но сейчас он был страшно спокойным, как будто задумывал убить себя.
— Ты, наверно, замуж выйдешь, да? — спросил я Донию.
— Что ты все спрашиваешь?
— Так… жалко тебя.
— А Гумера не жалко?
— Чего его жалеть? Он парень.
— Ну и меня… чего жалеть!
До конца смены оставалось немного, когда я поглядел на часы. Там было: еще толчок, другой, и все. Толчок я услышал раньше положенных минут, следом раздалось еще несколько незнакомых, глухо громыхающих толчков — завал! Изоляторы свалились, застопорили проход в печи. Я кинулся к топке, увидел пламя, смятенно бьющееся и желтое, и закричал:
— Стой!
Поезд остановили, закрыли подачу воздуха и мазута. Дударай пошел вдоль печи, коротким ломиком выстукивая торцы. Потом начальник цеха, в пиджаке нараспашку, с бледным лицом, взял у Дударая ломик и простучал по торцам сам и отбросил ломик.
— Ломать!
Я все не мог оправиться от растерянности, и, когда принесли ломы, их разобрали раньше меня.
Торцы оказались хрупкие и ломались легко. Пламя я увидел, когда наполовину разрушили стену. Оно было все изорванное, еще желтое. Оно лежало. Туда, где оно лежало, должен был кто-то влезть. Пахло жженой землей, сухим горячим железом, еще на мгновение запахло дождиком: кто-то открыл окно.
Я сказал, что полезу в печь. К этому отнеслись спокойно, только начальник цеха почему-то оглядел меня, но ничего не сказал.
На меня очень долго надевали комбинезон, сверху брезентовый, внутри ватный. Валенки я надел сам. Они были большие и обгорелые, кто-то до меня надевал их не раз.
Я шагнул в печь медленно, в полный рост, потом пригнулся и заспешил — предстояло сделать два шага или три шага, не больше.
Да, пламя лежало, но вблизи оно оказалось прежним — легким, не желтым, знойным. Таким, каким я управлял всегда.
Я опустился на колено, потом на бедро и на локоть и протянул руку. Справа ударило горячим ветром — голову отклонило набок. Это дуло из вентилятора.
Я протянул руку и наткнулся на болт, который надо было вынуть. Но лицо потянуло к горячему ветру вентилятора, дышать им было легче, чем плотным жаром. Я сделал короткий, как рывок, вдох. Медленно, придерживая губами воздух, выдохнул. Вторым вдохом едва не подавился, затрясся и — точно пламя выперхнул. Но все равно я мог бы еще раз протянуть руку…
Меня вытащили. Когда вытащили, я понял — куда там! — не смог бы. Придерживая с боков, меня вывели во двор.

![Город маленький [СИ]](/uploads/posts/books/124807/124807.jpg)