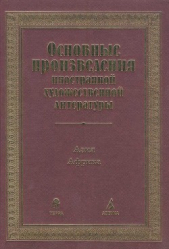Донбасс
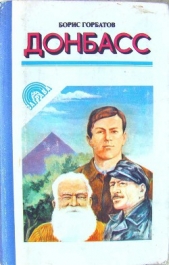
Донбасс читать книгу онлайн
Роман возвращает нас к 30-м годам, к зарождению стахановского движения, и концентрирует весь литературный опыт писателя: здесь публицистичность повествования сочетается с лиризмом, через лирического героя Сергея Бажанова автор ведет прямой разговор с героями романа и с читателем — о своем поколении, о судьбах Родины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нечаенко сделал хороший доклад; прения обещали быть оживленными. Первым выступил Прокоп Максимович Лесняк. Чуть раскачиваясь всем своим большим и грузным телом на маленькой для него, утлой и скрипучей трибуне, он доложил собранию, что его участок — весь — переходит на стахановский метод. А для этого, по зрелому, хозяйскому размышлению, решено покончить с карликовыми уступами, вместо восьми оставить только четыре и везде ввести разделение труда. А чтоб нигде и ни в чем задержки не было, коноголов и лесогонов тоже перевести на индивидуально-прогрессивную сдельщину.
— А как же? — сказал он. — У каждого человека свой интерес должен быть. А лесогоны, что ж они, разве не человеки?
Все, что предлагал сейчас Прокоп Максимович, было обдумано им совместно с Андреем, обсуждалось и партийной группой участка и шахтпарткомом. Сейчас, слушая старика, Андрей только молча и согласно кивал головой.
— А с производительностью как будет? — вдруг перебил Лесняка Рудин. — Вот Забара уже триста тонн дал. Слышали?
— Слушок есть… — сдержанно ответил Прокоп Максимович.
— По секрету вам скажу: этот слушок верный! — засмеялся Рудин. — Ну, а вы что же?
— Обещаем удвоить добычу на участке.
— На участке? — переспросил Рудин. — Ну-ну, подождем, посмотрим.
Он был в приподнятом, радостном настроении, это все заметили. Все время добродушно улыбался, шутил, перебивая ораторов веселыми репликами, вопросами, и, увлекаясь, говорил много и долго. Есть люди, для которых процесс говорения есть самый активный, самый творческий процесс их жизни. Они верят во всемогущество слова, даже когда за ним нет ни дел, ни поступков. Для них произнесенная речь уже и есть дело. Таким был и Рудин. Он умел и любил говорить. Он говорил непременно громко, веско и вкусно, будто не слова произносил, а рубли чеканил. Он тщательно выговаривал каждую букву в слове и, видно, сам наслаждался музыкой своих речей. А оратор, которого он перебил, в это время тоскливо маялся на трибуне, неловко улыбался, не зная, что делать, и ждал, пока Рудин выговорится.
Наконец слово дали Андрею Воронько. Он быстро, как-то нетерпеливо даже, поднялся с места и торопливой, не своею походкой пошел через зал, — значит, нервничал. Рудин приветливо, как знакомому, улыбнулся ему, а потом наклонился к Нечаенко и стал что-то шептать. Нечаенко вежливо слушал, а сам тревожно косился на Воронько. Он был непокоен за него. Как-то он выступит? Станет ли говорить о "рекорде" Забары? Затронет ли Рудина? Нечаенко давно чувствовал, как в нем самом зреет недовольство секретарем горкома. Он уже понимал, что рано или поздно столкнется с ним. Но на чем? Пока фактов было немного для настоящего боя. А личные симпатии или антипатии к делу не идут.
Странно, что, взойдя, почти взбежав на трибуну и увидев перед собою зал, Андрей вдруг успокоился. В зале сидели его товарищи. Он знал каждого из них. Он увидел, как улыбается ему дядя Прокоп. Заметил в первом ряду Ланцова, того самого, что говорил: "Коняге теперь за забойщиком не угнаться". На президиум Андрей не оглянулся. Он знал: там Рудин. Но и Нечаенко там.
Он оперся обеими руками о борт трибуны, подался лбом вперед и сказал:
— Вот тут товарищ Рудин про рекорд Забары вспоминал. Скажу и я об этом рекорде.
Заинтересованный, Рудин всем корпусом повернулся к нему.
— Ишь, как Забара всех за живое задел! — довольно проговорил он и засмеялся. — Ну-ну!
Андрей никак не отозвался на эту реплику. Спокойно продолжал говорить:
— Знаю я про этот рекорд. Вчера сам был на "Красном партизане". Верно, рекорд есть, а угля нету, вот беда! — усмехнулся он. — Я не против рекордов, сами понимаете… Об этом что говорить? Но желательно нам, чтоб рекорды были честные…
— А у Забары, что ж, не честный рекорд? — ревниво вскричал Рудин.
— Я и про Забару ничего не говорю! — по-прежнему не глядя на Рудина, ответил Андрей. — Он забойщик честный. Он добросовестно рубал. Это я признаю. А вот вокруг него все делалось нечестно, неправильно…
— Ну, это уж из зависти! — сердито нахмурившись, сказал Рудин. — Нехорошо, нехорошо! — и покачал головой так, чтоб все это видели. — А ты бы нам лучше о своей работе рассказал, чем кумушек считать трудиться… — и все поняли, что Рудин всерьез рассержен на Андрея, хоть и не знали, за что и почему.
Андрей смутился. В самом деле, не подумают ли товарищи, что он просто из зависти к Забаре высунулся сюда? Он затоптался на трибуне, не зная, как теперь продолжать речь; на его крутом лбу выступила испарина.
— Да-а… Зазнались, зазнались вы тут маленько! — меж тем, успокаиваясь и снова приходя в прежнее, победоносно счастливое расположение духа, продолжал Рудин. — Вчерашней славой надеетесь прожить, на соседей обижаетесь, что обгоняют… Нехорошо! Некрасиво! Ты бы лучше, товарищ Воронько, — уже примирительно, даже ласково обратился он к Андрею, — рассказал собранию, как сам думаешь свою работу организовать. Вот это дельно было бы!..
Андрей стал нервно перелистывать свой блокнот.
— Я и об этом скажу! — пробормотал он. — Тут товарищ Лесняк уже докладывал… Я, как парторг участка, со своей стороны… — он запнулся. Всем сделалось неловко за него. "Укоротили-таки парня!" — с горечью подумал Прокоп Максимович и хотел уже подыматься на помощь. Но Андрей вдруг решительным движением отодвинул блокнот в сторону и сказал глухо, но твердо: — Нет, я сперва скажу про то, что хотел. А там — судите!
— Говори, товарищ Воронько, обо всем, что находишь нужным! — громко сказал Нечаенко. — Ты на партийном собрании.
— Вот именно! — подхватил Рудин. — И помни, что ты на партийном собрании, а не на базаре… — он ожидал, что эти слова вызовут веселый смешок в зале, но собрание заворчало, задвигалось; чей-то голос недовольно произнес:
— Да дайте же человеку до конца сказать. Зачем сбиваете?
— Ничего! — сказал Андрей. — Я не собьюсь.
— Говори, Андрей.
И Андрей стал рассказывать, как всякими правдами и неправдами "организовывался" рекорд Забары. Как из-за этого рекорда был расстроен режим и порядок в шахте и как ценою срыва суточной добычи этот "рекорд" был, наконец, достигнут.
— И все это делалось по команде товарища Рудина. Товарищ Рудин всех подменил: и начальника шахты, и главного инженера. Говорят, он и за диспетчера был, за начальника движения… Сам вагонетками руководил — какую куда…
В зале засмеялись, и этот непочтительный, как показалось Рудину, недостойный по отношению к нему смех оскорбил и взорвал его больше даже, чем слова Воронько.
— Но-но, поаккуратней! — вскричал он, уже теряя власть над собой. — А не молод ли ты учить меня, как руководить?! Сам-то в партии без году неделя, а…
— А для выступления с критикой стаж не установлен… — спокойно возразил Нечаенко, и коммунисты опять засмеялись.
— А это не критика! Это демагогия, мальчишество, хулиганство! — невольно вскочив с места, крикнул Рудин и тут же пожалел, что крикнул это. Невнятный гул разом прокатился по залу, словно ветер прошумел, и что-то грозное послышалось Рудину в этом ветре…
Рудин был недоволен собой. Пожалуй, никогда еще в жизни не был он так собой недоволен. После партийного собрания на "Крутой Марии" он приехал прямо в горком и прошел в кабинет, раздраженно бросив на ходу секретарше, чтоб она никого к нему не пускала.
— И чаю, чаю мне! — прикрикнул он уже в дверях. — Да покрепче! — затем вошел и запер за собой дверь.
Ему уже было ясно, что на "Крутой Марии" он сделал ошибку. "А-а… — досадливо морщился он. — Как я себя глупо вел!" Как всегда, особенно болезненно припоминались мелочи и стыднее всего было именно за них. "Я, кажется, даже взвизгнул… — скривился он. — Бездарность! Истеричка!" Он сердито ткнул окурок в пепельницу и тотчас же закурил новую папиросу, стал жадно ее сосать. В последнее время он вообще много курил, это скверно! По утрам появилась тошнота, во рту все время отвратительный привкус кислого и металлического. "Вообще все расклеилось в последнее время: и сердце и нервы… — думал он, бродя по кабинету. — Все стало скрипеть, шататься, дергаться. Отсюда и ошибки. Вот теперь — зажим критики. Этого только не хватало!"