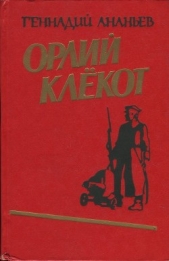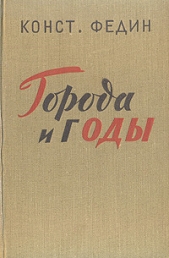Города и годы. Братья
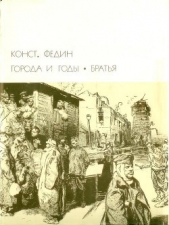
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И только вот что разорвало ее непрерывность, литым мечом откинуло в сторону весь этот день и сделало его прощальным:
Ночь была холодна. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась — пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура впрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.
— Рита! — вскрикнул Андрей.
— Я хотела, чтобы никто не видал, чтобы не видал Голосов, — задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук, нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:
— Прощай!
Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда, — должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:
— Гони!
И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.
— Гони, гони, гони!
Потом Андрей забился в угол теплушки и, подняв высоко воротник, закрыл глаза.
Спустя час поезд волочил его по пути в Петербург.
В этот час Курт Ван, составляя донесение в Москву о работе Семидольского совета солдат Германии, написал последний пункт записки:
Глава о девятьсот двадцатом
Чехлы сняты
За окнами медленно падал легкий, пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. На столе под широкодонным кофейником колебалось синеватое пламя спиртовки.
Обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Потом опять взбирался на лестницу, обнажал следующую картину и снова рассматривал ее издали. Иногда он оборачивался к окну, глядел на плавное падение снега, поправлял засученные рукава еще не смятой рубашки и вновь принимался за работу. Ему помогал неслышный слуга, складывавший в угол чехлы и переставлявший лестницу.
Обер-лейтенант выпил подряд две чашки кофе, раскурил трубку и приказал:
— Приготовь умыться и поди седлай.
Слуга вышел, но через минуту вернулся и доложил:
— Фрейлейн Урбах.
Обер-лейтенант стиснул ручки кресла, выбросил туловище вперед, чтобы вскочить, но тотчас овладел собою, поднялся спокойно и спокойно ответил:
— Проси.
Мари вошла быстро и остановилась посреди комнаты. Ее еще овевала свежесть легкого мороза, и на плечах ее блестели следы растаявших снежинок.
Обер-лейтенант поклонился. Мари стояла неподвижно. Он шагнул к ней, и правая рука его заметно дернулась. Он начал:
— Вы пришли…
Ему что-то мешало говорить, он осмотрелся, как будто неожиданно попал в незнакомую комнату, направился к двери и попррбовал, хорошо ли она затворена. Возвращаясь к столу, он миновал Мари с каким-то усилием: шаги его замедлились, и он должен был наклониться, чтобы они не остановились.
— Присядьте, — сказал он.
Но Мари продолжала стоять, глядя в сторону. Он смотрел на нее, и пальцы его опущенных рук подергивались, точно он все время хотел что-то взять или сделать какое-то движение и все время раздумывал. Всегда чуть раскрытые губы его обнажили крепкую белизну зубов, и лицо стало сразу испуганным и хищным.
— Почти четыре года… — вновь заговорил он. — Я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой… чужой. В этой комнате, Мари…
Она внезапно перебила его:
— Вы обманули меня?
— Я? — воскликнул обер-лейтенант.
Взгляды их встретились на мгновенье, потом Мари опять отвела глаза в сторону, и обер-лейтенант повернулся к столу. Он выдвинул ящик, достал бювар, открыл его, вынул засаленный, помятый конверт, подошел к Мари и молча подал его ей. Она разорвала конверт, взглянула на начало письма, на его конец, — и обер-лейтенант видел, как по ее щекам разлилась густая и медленная кровь. Мари зажала письмо и спрятала руку в кармане пальто.
Обер-лейтенант отошел к окну и, всматриваясь прижмуренно в глубокую снежную рябь, с усилием расставил внятные слова:
— Я вас никогда ни в чем не обманул. Обманули меня вы.
Мари отозвалась тихо:
— Я не люблю вас.
Он не ответил. Она помедлила, потом внезапно громким голосом и торопясь сказала:
— Я не верю ни одному слову в вашем письме. Это все — ложь, что вы написали…
Тогда обер-лейтенант круто обернулся к ней, заложил руки за спину и захохотал. Он хохотал, покачиваясь вперед и взад, не сводя с Мари взгляда и притопывая носками сапог по ковру. Смех не давал ему выговорить ни слова. Наконец он успокоился, приподнял одну бровь и, небрежно шевельнув плечами, посоветовал:
— Мне думается, уважаемая фрейлейн, что лучше всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью…
Он прищурился на Мари, опять застукал ногой по ковру, взялся за трубку, но не закурил и бросил ее на стол. Боль и надменность переметнулись на его губах, и он спросил:
— Вы ненавидите меня?.. Что делать. Я написал вам одну правду…
Он вдруг заметил, что Мари бледна и странно покачивается, не переставляя ног. Он двинулся к ней, но она быстро повернулась и пошла вон из комнаты.
Обер-лейтенант прислушался, как угасали ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее, выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился.
В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина «Дворик Немецкого музея в Нюрнберге». Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна.
Звук был такой, как будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба.
Новая земля
— Вас, папочка, честью просят потесниться… — говорит Щепов-сын.
— Да была ли у тебя когда-нибудь честь? — кричит Щепов-отец.
— Это ваше частное мнение.
— Господи боже! Один сын обворовал до нитки, пустил старика по миру! Теперь приехал другой — выбрасывает отца на улицу. Подыхай под забором.
— Вас не выбрасывают, а просят занять комнатки поменьше.
— Проклинаю тебя отеческим проклятием на всю жизнь!
— Вы, папочка, сволочь…
— Проклинаю, проклинаю! Изверг!
До Андрея доносятся исступленные старческие вопли, шум от передвигаемых стульев, хлопанье дверей. Потом все стихает, и через стену слышен голос Щепова-сына:
— Нельзя, Клавдия, выселять Старцова, когда у него жена на сносях…
Жена?
Андрей разгибается, встает, подходит к постели, на которой сидит Рита. Он кладет ладонь на ее голову, гладит мягкие прямые волосы, говорит так, что слышно только ей:
— Моя жена.
Рита прижимает его руку к щеке. Он смотрит на ее улыбку — беспомощную и странно озаряющую одутловатое, водянистое лицо. Оно некрасиво, неприятно какой-то преждевременной, чужой дряблостью, и он целует его нежно.