Три тополя
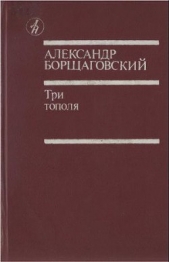
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он решил бросать в «тихой», так называли заводь пойменного берега. Там издавна был тихий угол, его образовали матерый берег и длинная насыпь, идущая от плотины. Дамбу эту и взорвали по воле инженера Клементьева, когда ледяной барьер грозил раздавить плотину: река неистово устремилась в проран и оставила после себя глубокий омут, обширное, темное обиталище щук. Юношей Капустин, устав от бесплодных бросков, долго не засыпал, видел себя у благословенного омута, принимал непокорный удар щук, выводил и лихо прихватывал их…
Серый лягушонок прыгнул из травы, толкнулся в ногу Капустина, он поймал на лету холодный, заколотившийся в ладони комок и разжал сразу же пальцы: на память пришла давняя, такая же высветленная луной ночь, когда он бежал вниз с чиликанами в коробке и лягушатами в полосатом носочке, бежал, страшась, что Дуся Рысцова не пустит его на плотину. В ту ночь смешались страх и счастье: счастье было в непрерывной живой дрожи ажурной плотины, в бурлящей понизу воде, в высоком, словно не ночном небе, в чужой женщине, резкой и справедливой, но почему-то не такой доброй, как ее муж Клементьев, оно было во внезапной, необъяснимой новизне мира.
Когда все это случилось? Кажется, только вчера, так памятно все: узкий, щелястый настил плотины, куканы Рысцова, на которых по отдельности томились его жертвы, глумливое спокойствие Прошки и то, как отчужденно, предостерегающе растворились в ночи шлюзовские служащие, поначалу так расположенные к Клементьеву.
Вчера ли это было? Поразительно, но целая жизнь прожита с той ночи, два десятилетия и, однако же, отдельная, завершенная жизнь, и в ней другая женщина, неважно, что близость их длилась недолго, она была, была, и пусть эта близость жила в нем одном, только в нем, она была сущей, даже мать не смогла отнять ее ни презрением, ни ревнивой ложью. Неужели их ночное родство с Сашей выше кровного, или так уродлива его натура, что ему невозможно представить себе Сашу совсем чужой? Ведь она посмеялась бы сегодня, узнав о его мыслях.
Даже воздух речной переменился, потянуло бензином, запахом перегретой резины, покусывающей горечью погашенного водой, горелого ивняка. Тусклые колымаги на колесах, мотоциклы с колясками, клееные лодки, поднятые на берег, рыбаки, спящие на снятых с машин пружинных подушках, на брезенте, на охапках прихваченного по пути сена. Черная тень электростанции, упавшая на стрелку, между Окой и шлюзом, прибавляла картине угрюмости, глухой, утюжком, корпус был мертв, без огней. Какая-то рыбацкая троица заночевала на каменном устое плотины, уложив поверх бетона дубовые щиты.
Капустина потянуло к полой камере в массивном устое плотины, он мог теперь без детской оторопи вглядеться в темный зев «печки», в пенистую, клокочущую воронку, о которой столько страхов рассказывали в деревне. В ее сумеречную глубину убегала веревка — напряженная, она подрагивала, казалось, не от толчков воды, а оттого, что там, в медной сеточке, металась рыба. Капустин испытал великое искушение поднять чужую сетку, но удержался, было такое чувство, что кто-то следит за ним, притворяется спящим и провожает его сейчас по плотине ревнивым взглядом.
Он шел по сухим, коротким, положенным вдоль плотины доскам, под ними в стеклянном, мощном изгибе пролетала вода. Впереди, ближе к левому берегу, маячила фигура рыбака, вполовину закрытая стоявшим на рельсах электрокраном. Перебравшись через его площадку, Капустин по тонкому, кроткому профилю, по сплюснутым полям сдвинутой на лоб шляпы «под соломку» узнал спиннингиста. Он хорошо выбрал место: сразу за краном верхний ряд щитов выдернут и положен на плотину, воды здесь падает больше, и понизу резко обозначилась граница бурлящего, вспученного потока и более плавного, попятного движения струй рядом.
Рысцов подался тощим животом к стальному перильцу, не глядя, молча освобождая проход; прикрытая пиджаком плетеная корзина стояла у его ног. Капустин уже перешагнул через нее, но в этот миг спиннинг согнуло и снасть повело, а Рысцов только зажал рукой катушку, чтобы не трещала, и стоял как ни в чем не бывало, поглядывая на вспененное ложе реки.
— Там рыба, — сказал Капустин.
— Струя сильная, только заведешь — вроде клюнуло, — скучно отозвался Рысцов. Брюки на нем добротные, со складкой, заправлены в сапоги, перехлестнутая подтяжками красноватая ковбойка свежая, будто только что из-под утюга Дуси Рысцовой. В лице и теперь что-то от ребенка: мягкий, будто без хрящей, нос с аккуратными дырочками ноздрей, нежный овал подбородка, шелковистая чистота кожи, кажется, все вокруг старели, а он, как безгрешное дитя, не менялся. — Давненько не залетал к нам, учитель, — сказал он дружелюбно. — Спиннинг не мой, Воронка, копеечный, всякой струе кланяется, Яшка вон на устое спит, его теперь и чекушка с ног валит.
— Давайте я возьму. — Капустин положил свой спиннинг на плотину, освобождая руки.
— Увидят — вся орава сбежится. — Рысцов прихватил леску и, отпустив катушку, стал выбирать снасть вручную. — Килограмма не будет, — сказал он тихо, будто его могли услышать на берегу. — Голавль подошел. — Рысцов ухмыльнулся. — Меня дожидался, когда я из лесу пойду. Уважил! Рыба меня уважает, а люди? — размышлял он вслух. — Я боровину кошу: справедливо это? Деревню хлебом кормлю, а меня за травой — в лес, половину стожков разворуют, а половину — как еще привезешь? За машиной в правление иди, кланяйся, магарыч ставь… — Голавль не бился в воздухе, а плавно, как гимнаст на снаряде, изгибался. Прошка опустил его под рубчатую подошву сапога, освободил тройник и сунул рыбу в корзину, прикрытую пиджаком. — Председатель колхоза — бог и царь, все деньги у него…
— Деньги в деревне всегда колхозные были. И машины — зачем они сельсовету?
— У колхоза не деньги были, — многозначительно отозвался Рысцов, — а долги. Дело только тогда и ведется, когда мужик в долгу перед государством! Не в наличности счастье, у нас не капитализм.
— А в чем ваше счастье?
Впервые за годы случайных встреч с Рысцовым у Оки или на деревенских улицах, встреч молчаливых, странно напряженных, полных взаимного недоброжелательства, а в детстве еще и страха Алеши перед главным караульщиком, впервые за все их угрюмое и бессловесное знакомство Капустин открыл, что Прошка все-таки стар, что и во взгляде его карих глаз, в его неестественно задержавшейся детскости проступает ожесточение человека, обращенного памятью в прошлое, отчаявшегося и старого.
— Не просветила тебя мамаша! — Пренебрежение сквозило во взгляде Рысцова: мол, живешь, как слепой щенок, не понимаешь, какая была жизнь прежде и какая пошла теперь. — Такие люди, как твоя мать, они и без денег колхозника в строгости держали, покрепче узда была. Для общества жили, для народа, — добавил он истово, — не для себя!
— Люди любили Капустину! — сказал Алексей, волнуясь и втайне досадуя, что и теперь робеет перед Прошкой.
— Про любовь в книгах твоих сказки рассказывают. — Снасть уже была заведена, леска натянулась, ее повело вправо, вперед и вернуло туда, куда и сбросил ее Рысцов. — Это и мы проходили. Слушались — вот тебе и вся любовь. Кто сердце смирил, тот и полюбил. На том Русь стояла: каждая изба по отдельности и все государство в целости.
Он задевал Капустина решительно всем: снисходительным тоном, высокомерной отстраненностью, непреднамеренным, привычным для Рысцова и все же неприятным обращением на «ты».
— Значит, люди сходятся без любви, рожают детей, жизнь живут под одной крышей? Без любви с ума сойдешь!
— И сходят, учитель! Не каждого распознаешь и в дурдом не свезешь, а сходят. Жизнь и в петлю загонит, ей только дайся, — вещал он убежденно.
— Что же вы с Евдокией без любви вместе? — Капустин уже не вполне владел собой. — Дом поставили, наличниками убрали — для чего-то же украшали?
— Дусина блажь! Она у меня до этой поры песни поет.
— Оба работаете, трезвые, дети всегда чистые, досмотренные ходили — чем-то ведь живет ваш дом!
— Ишь ты, как мой дом расписал!.. — огрызнулся Рысцов, глядя на Алексея отвергающе: ненависть этого взгляда относилась будто не к одному учителю и не столько к нему, как к чему-то, что было необратимо враждебно Прохору. — Если б в каждую избу такую жизнь, как у нас с Дусей, коммунизм давно был бы и без твоей сопливой любви.

























