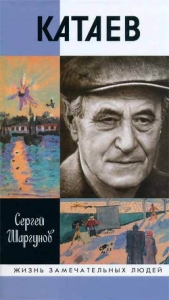Сердце: Повести и рассказы
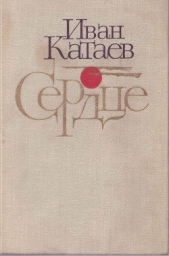
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1933
Хамрвники
Вступление к повести
Ты идешь Оболенским переулком. Минута дня, время года — незамечаемы, столичная смутность владеет тобой. Мысли — о моде на черные береты с хвостиком, может быть — о самоубийстве Ивара Крейгера. Переулочек тих и прост, — розовый умытый булыжник; справа, в глубине тупика, — подслеповатые окна казарменной конюшни, впереди затаенно громыхают корпуса «Красной Розы»; за домами, от Зубова, проносятся трамвайный скрежет и звон.
Ты идешь по теневой стороне; бесконечный глухой забор тянется рядом, дощатый, с кирпичными стояками и цоколем. Ничего нет; солнца нет; неба нет; мир, как ощутимое целое, отсутствует. Доски забора серы, все кругом серовато; розовый булыжник и тот на самом-то деле сер. Рассеянно прочитываешь ты на заборе: «Кока», «Валя», «дурак» и прочее, что вырезывают перочинным ножиком.
И вот на уровне своих глаз ты замечаешь длинную узкую щель. Надо заглянуть.
Остановись, приникни лбом к темной доске.
Падение молнии; золотая вспышка от земли до зенита. Дивный сияющий сад влетает в зрачки сквозь щель, — высокий липовый сад, пронизанный солнцем. Мелькая шершавыми стволами, оттененными с боков мягкой круглящей чернотой, он расступается в стороны, он ускользает по сочной траве в глубь усадьбы, он сливается там в кипящую светом и тенью крапивную гущину. Солнце ручьями катается по песчаным оранжевым дорожкам, подернутым шевелящейся рябью. Липы в полном цвету. Сильные кроны их как бы облеплены сплошь мохнатыми пчелиными роями, каждая ветвь благодарно и бережно держит нежный груз этих сухих золотистых щеточек, корзину, полную острых тычинок и душистой пыльцы. Все приподнято, все устремлено кверху, к синеве и зною, льющемуся оттуда.
Ты видишь? Лето стоит во весь рост, оно в забвении, даруемом высшей секундой славы, оно напряжено, как задержанное мгновение между вдохом и выдохом. Трава сквозит, каждый стройный стебель ее виден отдельно, он натянут, как струна, между почвой и светом.
Ты понимаешь теперь, глядя из сумрака в яркую щель: это полдень дня и полдень лета. Можно оторваться от щели, идти дальше. Но чувство схваченного на лету знания, счастье нечаянного постижения уже не покидает тебя. Ты словно взглянул на большие вселенские часы и узнал — сколько времени; а память всей жизни блаженно подсказала: да, да, и полдень века тоже не за горами. Через эти солнценосные ветки и темную крапиву ты еще сильней, чем через газетные столбцы, воссоединился со всем вечно растущим и зреющим миром... Мир придвинулся и обнял тебя. Что же сталось с Оболенским переулком? Он не проиграл в своей несомненности, он все так же прост и беден, но словно бы вольней и беспечней впадает в поперечную улицу, стиснутую кирпичными скалами фабрик, — незатрудненно вливается в Москву и в историю.
«Москва! — нежно думаешь ты, шагая по узкому выщербленному тротуару, — Какова же она, Москва? Грозная ли твердыня Коммунистического Интернационала, оплетенная радиомолниями, с отелями для белокурых и для смуглых людей, с дерзящей и самоуверенной прессой? Столица ли электричества и механики? Город ли — канцелярия с миллионом уборщиц, «ундервудов» и проволочных корзин для мятой бумаги?» Да, и то, и другое, и пятое. Но ведь она еще и просто горстка теплых пыльных кварталов среди холмистых полей, стекающих за дымчатый июньский горизонт.
За зубчатыми кремлями монастырей, за вокзалами, бойнями, заводскими стройками тихие поля тотчас же объемлют город, голубеют перелески, и простоволосый денек плетется по твердой тропинке: силосные башни по косогорам, дачницы в расшитых казанских туфлях на босу ногу, вопли пионерских труб в белых лагерях по берегам вертлявых речек, заросших серебристым ивняком... Напрасно крестьянские поэты из учительских семинарий бормочут под непрочитанного Верхарна о поглотившем их городе-спруте, о каменном плене и прочем таком. Жизнь едина, и она же достоверней всего. Луговое, лесное лето свободно входит в Москву через заставы, неспешно бродит по бульварам, отдыхает в старых садах и ночует на Воробьевке. И так же близки ей рябоватые, черствые снега заоколиц, и так же — ноябрьские галочьи хляби.
Жизнь едина.
Все это очень важно. Взявший в толк действительное местоположение Москвы среди угодий волоколамских, звенигородских, егорьевских и иных — легко сможет мысленно описать и следующий, широкий круг земли, потом еще более широкий, и так по земле доберется, пожалуй, и до Берлина, а по воде — до Нью-Йорка, не отрывая взгляда от неизменно родной и прекрасной поверхности нашего шара. Держать же в мыслях эту связь со всем миром по земле — так же благородно и ценно, как и перемахнуть другой раз через логические пустоты прямо к статистике доктора Кучинского о росте смертности среди германских школьников.
Потаенная дверца времени, глухая калитка истории тоже отворяется легко и без скрипа, если подойти к ней не с размашистыми умопостроениями, а с живыми, зримыми и душевно-значительными приметами места. Последи за собой: как с робкой улыбкой осматривается вокруг твое сердце, как, волнуясь, вздыхает оно, как счастливо падает в протянутые навстречу руки минувшего. Ты узнал, и ты узнан. Родство установлено и подтверждено вещественно. Нет сомнения: свиделись братья; братья по всеобщему и длящемуся непрерывно родительству жизни.
И только в дальнейшем пристальное, испытующее разглядывание может показать младшему, что встретились братья-враги.
Вот здесь, если свернуть из Оболенского за угол, за узорчатыми воротами стоит двухэтажный деревянный дом, крашенный в старушечью коричневую краску. Тот дивный сад, который ты увидел сквозь щель, сыроватыми дебрями своими прилегает как раз к задам этого владения и, перешагнув высокую ограду, подступает к внутренней террасе дома. Зайдя с улицы, нажми щеколду калитки — она отворится без скрипа. Чисто подметенным двором пройдешь прямо в сад, сядешь на скамеечку. Тишина, белый июньский зной, запахи созревших метельчатых трав. В доме пусто, все окна заперты. Хозяев пет. Ты знаешь: еще в апреле они отбыли в свою тульскую вотчину. Но твое зрение всесильно; тебе нужно только на одно мгновение прикрыть глаза, и, когда раскроешь, кругом будет московский ясный октябрь: резкая синева над крышей, инейный холодок, последние лимонно-желтые листки на липе.
Только к ночи замерла вчера во дворо суета приезда, втащили в парадное последние баулы, и кучер с дворником, взяв за тонкие оглобли черно-сияющее, как рояль, ландо, вкатили его в ворота каретника. Пока богатейшие созвездия медленно текли над домом за Москву-реку, в шестнадцати комнатах его сонно дышала, раскинувшись на прохладных простынях, огромная семья, потрескивали рассохшиеся за лето половицы, и наверху, в узком ступенчатом коридорчике, во мраке, посреди светлого круга на обоях, неугасимо желтела пятилинейная лампочка, В пять часов утра в туманном рассвете заревел гудок напротив, через мостовую, на шелкоткацкой; откликнулся рядом, на чулочной, потом на парфюмерной, и пошло перекликаться по всему Поддевичьему; под окнами, по плитняку зашаркали подошвы, поплыл говорок. В доме покашляли, повернулись на другой бок, и опять все стихло. Но едва только косые, слизывающие белый льдистый пушок лучи прокрались меж труб и чердаков от Чудовки и разбудили под крышей озябших воробьев, — растворилось вон то, крайнее справа, окно во втором этаже.
Окно растворилось, — теперь гляди. В темной раме наличников стоит белый старец. Солнечный луч проник в путаницу седой бороды, прущей, как из пещер, из темных провалов под скулами, сбегающей от грубых квадратных ушей. Лицо его слегка запрокинуто и озарено желто-розовым сиянием утра; взгляд из-под клокастых серых бровей устремлен высоко, к сквозящим вершинам огнистых лип, вычернивших оголенное прутье на гладкой синеве неба. Он стоит, опершись о подоконник большими бугроватыми кулаками, широкая грудь медленно дышит под снежно-белой блузой. Яркое, пестрое утро, все в сверкающих осколках разноцветной листвы, красного кирпича, крыш, неба, смотрит в глаза, жадно летящие навстречу из грозных, баламутных пучин его существа. Взгляд заключенного из крохотного зарешеченного окошка в грозном бастионе, молитва и надежда пожизненного пленника... Там, за темными впадинами глазниц, под глыбами прирожденных предрассудков, нелепых страстей, лживых учений, пылает и вьется прелестный, легкий пламень жизни и рвется наруя«у — в мир, в солнце, в ясность. Но кругом — темница тела, темница дома, темница рода, темница неуклюжей, молчаливой страны, — и: только взгляд, молящий и озаренный, навстречу смертельной осенней свободе. Приди, освободи хоть ты, уничтоженье!..