Вольница
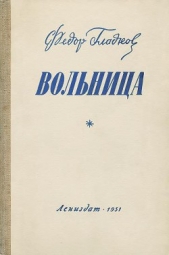
Вольница читать книгу онлайн
Роман «Вольница» советского писателя Ф. В. Гладкова (1883–1958) — вторая книга автобиографической трилогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»). В романе показана трудная жизнь рабочих на каспийских рыбных промыслах. Герои проходят суровую школу жизни вместе с ватажными рабочими.
В основу «Вольницы» легли события, свидетелем и участником которых был сам Гладков.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 22 марта 1951 года Гладкову Федору Васильевичу присуждена Сталинская Премия Первой степени за повесть «Вольница».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да кто это тебя в такую кабалу погнал? Для кого это ты надрываешься? Ни мне, ни себе никакой спорыньи. Спокою от тебя не знаю — всё время сердце ноет. Простудишься, надломишься — и захвораешь.
Но я резонно доказывал ей:
— А ежели ты захвораешь, кто тогда работать будет? Чай, с голоду-то умирать не охота. Дядя Игнат мне жалованье выхлопочет.
Но она ещё больше тревожилась от моих возражений и однажды отважилась упрекнуть кузнеца.
— Не заманивай ты, Игнатий, парнишку-то. Сгубишь его у меня, как свою девчонку…
Кузнец добродушно ухмыльнулся и ответил не ей, а мне:
— А ты, Фёдор, скажи матери-то, какой ветерок занёс тебя ко мне на порог.
Мне было стыдно и перед кузнецом, и перед резалками, которые сидели вокруг стола и ужинали, а особенно перед Прасковеей, что мать, как клушка, заслонила меня от кузнеца, словно цыплёнка. Но ни Прасковея, ни женщины даже не взглянули на нас. Только кузнечиха огрызнулась, звякая чашками и кружками в своём кутке:
— Спрячь его к себе под мышку и не суйся в чужой курень! Бездомный кутёнок сам лезет в первую подворотню. Этакого шатуна давно бы в люди надо отдать, а он у тебя без дела болтается.
Но мать неожиданно вскипела и, с враждебным блеском в глазах, вызывающе вскинула голову.
— Я и без тебя знаю, что делать со своим дитём. Не учи, ежели своего робёнка уморила.
Кузнец смотрел на мать с добродушной ухмылкой: ему, должно быть, казалась потешной её горячность. Он лениво прикрикнул на жену:
— Не твоё дело! Застынь!
Феклушка поднялась на локте и тоненьким голоском, по-бабьи, пропела:
— Это я, тётенька Настя, упросила Федюшку к тятяше на меха пойти. Мне-то сейчас мочи нет, а он здоровенький. «Поди, говорю, Федяшка, в кузницу — встань заместо меня…»
И этот её милый голосок словно поразил всех: в казарме стало вдруг тихо, а женщины с изумлением повернулись к Феклушке. Что-то трепетное и неуловимо хорошее пролетело по казарме и ласково дотронулось до сердца каждого. И мне показалось, что кто-то даже вздохнул облегчённо. Мать застыла на месте и с дрожащей улыбкой смотрела на девочку.
Я не утерпел и крикнул:
— Я и без Феклушки пошёл бы. Она только поторопила меня. А чтобы я не боялся дяди Игната, хвалила его. У тятяши, говорит, душа всех краше.
Меня оглушил общий хохот. Сначала я не понял, почему люди уставились на меня и тряслись от смеха, потом обиделся и надулся. Я хотел показать себя кузнецу самосильным работником, человеком, который с радостью берётся за любое дело и всегда готов броситься на помощь не только больной Феклушке, но и взрослым, как Галя, а меня вдруг ошарашили хохотом. Что же потешного в том, что я хоть и отрок, как меня смешно называла Раиса, но смело стараюсь защищать своё достоинство? А маленьким своим умишком я понимал, что люди привыкли жить по какому-то общепринятому укладу, который принуждает каждого быть покорным, незаметным, применяться друг к другу, но держаться особняком, ютиться в своём углу и не высовываться оттуда из опаски, как бы не подняли насмех да как бы не ударили по башке. Одним словом, жили впритирку, заподлицо, как говорят плотники. И этот уклад создавался сам собою, ватажным духом, и был нерушим. И только Прасковея с Гришей, да Оксана с Галей — городские люди — тревожили всех своей смелостью и непокорливостью.
Несмотря на то, что работали от темна до темна, все, как и раньше, пели песни на плоту и так же, как и в прошлые дни, с плота уходили густой толпой с пляской, словно срывались с цепи. И на плоту, и в мастерских, и в казарме жил свой ватажный, беспокойный, самоуправный дух, который похож был на вольность. Мне нравилась эта разбитная артельная жизнь; каждый из этой сотни людей был сам по себе — вёл себя по своему нраву: одни — смирно, безгласно, другие — разудало, озорно, третьи — степенно и расчётливо, с трезвой раздумчивостью. А такие, как мать с Марийкой, — мечтательно ждали каких-то необыкновенных событий и праздничных дней. Они льнули к Прасковее и к Грише-бондарю, всегда весёлому, уверенному в себе человеку, который знал какую-то недоступную всем правду. Мне казалось, что он весь светился свойственной ему душевной красотой. И несмотря на то, что все надрывались на работе и ели отвратительную болтушку и сырой горький хлеб, а в конце месяца многие не получали ни копейки на руки, — никто не унывал и не жаловался. А в те дни, когда было невмоготу и у людей не было гроша за душой, бунтовали, ругались и грозили разнести в щепки контору, вывезти на тачке управляющего, подрядчицу, плотового. Но от этих угроз только мстительно веселели. Может быть, потому, что я был ещё мал годами и бурно рос, здоровый и закалённый первобытной сельской жизнью, я чувствовал в этой артельной тесноте огромную семью, где нет ни лохматого деда, ни домостроя, а люди живут как-то свободно, по своему ватажному, негласному уговору: пусть на нарах в барахле — свалка, а в казарме — толчея, но каждый живёт, как ему хочется, а в галдеже, в тесноте я постоянно ощущал что-то вроде бесшабашной жизнерадостности. И ни смерть Малаши, ни болезнь Гордея и Гали, с которых подрядчица делала вычеты за невыход на работу, не нарушали этого вольного духа и молодой беззаботности. Смех, шутки, громкие разговоры, песни не утихали даже ночью, после работы.
В эти дни я нечаянно встретил Гаврюшку. Кузнец послал меня на соседний промысел в кузницу, к своему дружку Тарасу — с напильником, который он сделал сам.
До соседней кузницы было недалеко. Она задней дощатой стеной выходила на улицу. Кузнец несколько раз посылал меня туда с записочками. С этим своим приятелем у него были какие-то странные отношения: мне казалось, что оба они ненавидят друг друга, но дружбу порвать не могут. Тарас был щупленький, нервный парень с жиденькими усами и бритым подбородком, сутулый, и казался очень недобрым. Только чёрные глаза всегда лихорадочно блестели. Встречал он меня тоже неприветливо, как подручного своего врага, но обязательно срывал с моей головы картуз, ворошил мои кудри и неласково говорил в нос:
— Ну, опять припрыгал? Надоел ты мне, как моя совесть. Только кудри твои и спасают тебя. Рвать их жалко. Ну-с, так что пишет твой верблюд?
И он нетерпеливо прощупывал карандашные строчки на грязной бумажке, и глаза его наливались смешливой слезой, а лицо искажалось самолюбивой обидой.
— Хо, норовит переплюнуть меня… Ах, верблюд, верблюд! Да таких рук, как у меня, сроду нигде не найти. На рашпиле он срезался: закалку не разгадал, и у него получилась лутошка. А ещё грозится поразить меня тонкой насечкой… Эту тонкую насечку надо уметь сделать, как на хрустале. Ежели мои руки не добились этого скорописного письма на стали, так с его верблюжьими копытами и думать нечего. Погоди, друг, я тебя руки грызть заставлю!
Он мусолил маленький карандашик и малограмотно царапал им на той же бумажке несколько слов с ядовитой злинкой в лице.
— На, кудряш, верблюжий паж, неси ему этот гостинец! Только не слушай, как он будет лаяться.
Он глядел на меня с насмешливым презрением, но худая рука его, покрытая окалиной, мягко подталкивала меня в спину.
— Ну, валяй, курносый, да скажи своему верблюду, что он тогда со мной сравняется, когда призадумается.
А Игнат прочитывал ответ и хохотал, сдвигая шапку на затылок, потом на лоб.
Но каждое воскресенье они обязательно встречались и уходили куда-то вместе, как задушевные друзья.
И вот с маленьким напильником, голубым от закалки, с мельчайшими насечками, я шёл к сопернику моего кузнеца, чтобы поразить его чудом тончайшей работы.
Перекладывая с ладони на ладонь этот трёхгранный шершавый напильник, я только в эти минуты понял, почему Игнат каждый день старательно тюкал молотком у тисков, несколько раз свирепо вырывал из зажимов железку и, ругаясь, бросал на пол.
По песчаной улице бежал Гаврюшка с книжками в ремешках, одетый хорошо — в серое суконное пальто и брючки навыпуск. На коротко остриженную голову аккуратно надет был картузик. Лицо его похудело ещё больше. Он сначала не узнал меня, чумазого, закопчённого, в грязном фартучке, которым я очень гордился: в нём я чувствовал себя настоящим работником.


























