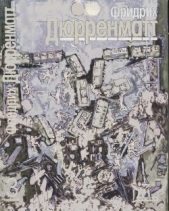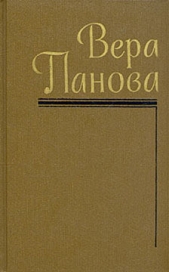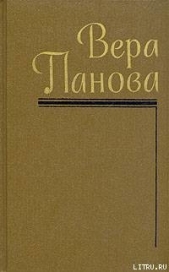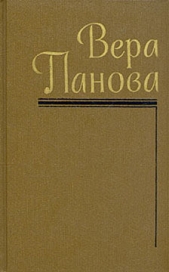Собрание сочинений (Том 5)

Собрание сочинений (Том 5) читать книгу онлайн
В том вошли циклы исторических повестей и рассказов В. Ф. Пановой "Лики на заре", "Смута", посвященные Руси X - XII и XVI - XVII вв., рассказы из циклов "Из американских встреч", "Из запасников памяти", а также впервые публикуемая в полной редакции автобиографическая повесть "О моей жизни, книгах и читателях".
Составление и подготовка текста А. Нинова и Н. Озерновой-Пановой
Примечания А. Нинова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одну такую юбку, красную, я описала в романе "Времена года", вобравшем вообще много деталей моей бедолажной жизни. Была, была на самом деле такая юбка, она взвивалась в моих руках, как победное знамя, когда я шла с нею между возами, и со всех возов тянулись ко мне здоровенные загорелые руки станичных молодиц, жаждавших заполучить себе эту красоту. Что-то очень прибыльно я ее обменяла на живительные продукты и много добра принесла в кошелке домой.
Когда же случалось отдавать что-либо за деньги, я тут же покупала продукты в базарных рядах и опять-таки возвращалась к своим не с пустыми руками.
Вот так и жили, кормясь от старого сундука.
Помню, как весной 1918 года в Ростов пришли немцы. Жители собирались в тот день кучками и глазели на небо, где по временам с урчанием пролетал аэроплан. Впервые тогда я увидела эту машину и услышала грозно-пророческое ее урчание. А затем не стало в Ростове коммуны и возникли новые слова, упоминавшиеся так же часто, как перед тем "Цыпленок жареный", то были слова: "белая гвардия", "белогвардеец", "контрреволюция".
Появилась новая песня "Яблочко", еще более популярная, чем "Цыпленок". Куда ни пойдешь: на улицу, в лавочку, в кинематограф - везде пели:
Ой, яблочко,
Куда котишься,
В Ростов попадешь
Не воротишься.
Нам с братишкой эту песню почему-то запретили петь, мы по-прежнему пели только старые детские песенки из сборника, лежавшего у нас в доме на рояле чуть ли не с моего рождения.
Однажды я подружилась с девочкой лет пятнадцати и впервые услышала от нее загадочное слово "Поклардаш".
- Как? - сказала она удивленно. - Ты ничего не знаешь о Поклардаше? Это означает - поклонение артисту Дашковскому. - И разъяснила, что этот Дашковский - тенор, поет в оперетте и что его почитательницы организовали целое общество или кружок, задача которого - служить артисту Дашковскому и украшать его жизнь.
- Ты тоже непременно должна вступить, - сказала Ната.
Я ни разу еще не была в оперетте и никогда не видела Дашковского и не имела никакого желания вступать в это общество, самая задача которого сразу показалась мне дурацкой. Но Ната вскоре натравила на меня Лену В.
Вероятно, описывая в "Сентиментальном романе" поэтессу Тамару Меджидову, я где-то в уме держала Лену, хоть Лена и не писала стихов. Единственное, чего хотела Лена, это во что бы то ни стало выглядеть оригинальной и ни в чем, сохрани бог, не походить на обыкновенных девочек. Она носила очень яркие платья и на шее длинные янтарные бусы, на конце их болтался какой-то китайский божок, ударявший Лену по коленям, когда она шла. Она не признавала ни наших книг, ни наших развлечений. Она читала неизвестно кем сочиненные приторные стишки, ходившие в списках по рукам, а других стихов просто не признавала. Ей, впрочем, нравилась моя начитанность, она даже сказала как-то:
- Из тебя еще выйдет толк, хотя тебя и вырастили таким комнатным растением.
О "Поклардаше" она заговорила сразу и горячо, - она, оказывается, и была его создательницей.
- Ты ничего подобного не видела, - говорила она. - Это такой человек, такой человек!
Я продолжала отрицать "Поклардаш", но на два деяния ей все-таки удалось меня подбить. "Поклардаш" по какому-то поводу решил преподнести подарок тенору Дашковскому и его жене. Подарок делался в складчину, и, по настоянию Лены, я, к теперешнему стыду моему, выпросила у мамы какую-то мелочь, якобы на книги. Помнится, были поднесены два одеяла, которые нашему дому несомненно были нужнее, чем Дашковскому.
Второе, на что подбила меня Лена, - это посмотреть Дашковского.
Она зашла за мной в воскресное утро и повела на "Продавца птиц" в Асмоловский театр. Это довольно просторное и хорошо содержавшееся здание служило у нас в городе и для драмы, и для оперетты. Построил его фабрикант Асмолов, и потому театр звался Асмоловским. В нем-то и подвизался несравненный Дашковский, ради которого ростовские девчонки складывали свои полтинники и пятачки, чтобы украсить его жизнь.
Как я себя похвалила за свою неуступчивость, когда увидела его на сцене! Много лет минуло, и я не хотела бы обидеть человека, о котором, в сущности, ничего не знаю, кроме того, что он своим голосом и наружностью снискал себе столь горячих поклонниц, но не могу не сказать, что не заметила в нем ничего достойного поклонения.
Что из того, что у него был приятный тенор, это был ведь самый обыкновенный тенор, студент Степа Айвазов пел не хуже под аккомпанемент бабушки Надежды Николаевны. Наружность же артиста была еще менее выдающейся, чем его голос. Это был вполне заурядный, хоть и довольно-таки смазливый брюнет в розовом трико и опереточных мишурных цацках. Я смотрела и думала, что, вздумай Лена почитать ему, например, Бальмонта, которым мы тогда увлекались, он скорей всего ничего не понял бы. Мне показалось, что его жена-примадонна вполне ему под стать, и мне даже обидно стало, помню, за Лену, Нату и всех этих глупышек, обожавших его. Глупышки эти сидели вокруг меня всем скопом - справа, слева, впереди и сзади - и хлопали Дашковскому так, что сотрясался зал.
- Что же ты не хлопаешь, - шептала мне Лена, - ну похлопай хоть немножко, а то неудобно.
Но мне, напротив, неудобным казалось именно хлопать, и я упрямилась до конца. Хотя девчонки не переставали меня уговаривать и долго после этого спектакля приставали ко мне с вопросами, почему, собственно, я не хочу к ним присоединиться, я не могла найти слов, чтобы объяснить им это, кроме слов "глупо" и "стыдно", и они меня считали глупой и косной и стыдили за это.
Как почти во всех южных городах, в Ростове моего отрочества говорили не особенно правильно. Пусть не столь эксцентрично, как, например, в Одессе, но все-таки с большими искажениями и вольностями.
Помню, как потешался мой первый муж, когда бабушка Надежда Николаевна однажды сказала мне при нем: "Подбрось печку и поставь воду на голову". По-русски это бредовая бессмыслица, а по-ростовски означало: "Добавь угля в печку и согрей воду для мытья головы". Водой из ростовского водопровода нельзя было мыть волосы: она была очень жесткая, для мытья головы собирали дождевую, подставляя кадушку под водосточную трубу.
Помимо таких стихийно зарождавшихся языковых вольностей, в речи того времени были слова, происшедшие от тогдашних понятий и событий, уже следующему за мною поколению непонятные.
Так, например, женщина, имевшая многих поклонников, называлась "львицей", кража казенных сумм именовалась "панамой" - в связи с событиями при строительстве Панамского канала. Участь океанского парохода "Титаник", погибшего при столкновении с айсбергом, долгие годы жила в памяти ростовчан, при каждой вести о крупной катастрофе говорили: "Повторяется история "Титаника", как бы заявляя этими словами претензию на причастность Ростова к большому миру и его судьбам. Да, в сущности, претензия эта была справедлива, так как Ростов активно старался не отставать от хода истории, он всем интересовался и на все откликался, его фабрики и заводы вошли в историю революционного движения, он следовал моде не только в одежде, но и в литературе, и в спорте, и в воспитании юношества. А если речь его жителей порой отклонялась от грамматических канонов, то, повторяю, для южных городов это было почти законом, ведь сколько в них смешивалось "племен, наречий, состояний". И это издревле, ибо с незапамятных времен устье Дона было вместилищем разных народов. По нашей степи, поросшей бессмертником и чебрецом, проходили хазары, печенеги, должно быть, еще авары; судя по историческим указаниям, на месте Ростова находилась хазарская Белая Важа, взятая Святославом. Мудрено ли, что каждое племя оставляло здесь свои словечки и обороты.
И в то же время в семьях, вкусивших от просвещения, говорили, помню, нарочито чисто и правильно, именно как бы в пику стихийно сложившемуся искаженному говору. Мне приказывали читать вслух и Священное писание, и светские книги и тщательно поправляли мое произношение, указывали правильные ударения, объясняли непонятные слова.