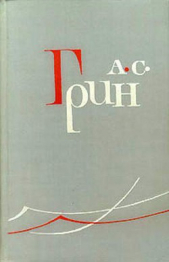Смех под штыком

Смех под штыком читать книгу онлайн
Автобиографический роман, автор которого Павел Михайлович Моренец (Маренец) (1897–1941?) рассказывает об истории ростовского подполья и красно-зеленого движения во время Гражданской войны на Дону и Причерноморье.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечера, долгие, томительные, коротали иногда по квартирам зеленых, а больше у себя, в штабе. Соберутся — Пашет, Илья, Иосиф, он-таки прочно поселился здесь; зайдет весельчак-толстяк, который проводил Илью от Марьиной рощи — и начнут поправляться вином. По одной-другой выпьют — и порции кончились. А бочки в другой половине хаты — ну, и потягивают украдкой понемногу. Так-то и беседа оживленней, и здоровье, будто скорей восстанавливается.
Собьются вокруг стола, а в окно моряк слизистый, ручьистый просится или норд-ост всклокоченный завывает. Разгулялись дикие силы в горах — столпотворение какое-то: проснешься — черное небо, дождь ручьями льет — не высунешься из хаты, кажется, навеки потеряно солнце; но пройдет час-другой, глядишь — засияло солнце, начало пригревать, как летом; а на ночь норд-ост разгуляется, снегу нанесет. Одичали горы, завалило дороги снегом, заледенило дождями — ни пройти, ни проехать.
От этого еще тоскливей становится, особенно когда разгуляется норд-ост. Настанет ночь, черная, дикая, «ночь на Лысой горе»; носится он по горам седой, всклокоченный, завывает в зарослях леса, метет снегом колючим; трещат дряхлые кряжи, грохочут ущелья, будто скалы раскалываются, катятся в бездну…
Выйдет Илья утром, сядет на скамейку у хаты, в затишье; со всех сторон катятся гигантскими валами через хребты гор растерявшиеся облака и уносятся сиротливо вдаль к Черному, мрачному, поднявшемуся стеной морю. Далеко это море, мертвое оно, словно мир вернулся в ту эпоху, когда не было человека, не было жизни, и металось оно, скрытое во мраке, в небытие…
Тоскливо. Пойдет Илья в гости к Кубраку. Тот — с женой, в крайней хате. На диком положении. Жена его из жалости прикармливает Ваню. Больной человек этот Ваня, слаб головой. Большой, ручища пудовые, лицо обрюзгшее, плаксивое, глаза страдальческие, а живот острый. Прожорлив, но сколько бы ни с’ел — не может утолить голода. Страдает, а над ним смеются.
В школе живет член реввоенсовета, представитель конной группы. Он простужен — ноги раз’едены ранами, руки в струпьях. Целыми днями он занят перевязками своих ран. Лечить нечем.
На втором хуторе — лазарет. Лежат на соломе, на полу, на нарах тифозные, малярийные, гриппозные, — все вместе. Кто разберется, чем кто болен? Да и к чему знать: лечить нечем. У фельдшера для всех одно лекарство — вино, тут же лежат с отмороженными, почерневшими ногами, ушами, лицами. Некоторым нужно отпиливать ступни, чтоб не мертвело здоровое тело. Вокруг — грязь, зловоние, мертвенно-желтые тела, стоны…
Что делать? Из кого сколотить отряд, чтобы уйти на Кубань? Написал Илья три приказа реввоенсовета: один — о начале работы, другой — о расстреле мифического лица за предательство, третий — о связях, — и выдохся. Нечего писать. Валяется в пыльном ящике стола никому ненужная тетрадка.
И сбивает тоску, неудовлетворенность на Иосифе. Гонит его в строй, чтобы не было привилегий. А какой из Иосифа строевик, если у него ноги больные: пойдет через два двора — уж он месит, месит грязь своими постолами, свалятся они у него с ног, придет он измученный, в одних портянках: один постол за ремешок волочит, другой — в зубах держит, а свободной рукой штаны поддерживает. И полы шубы по колено в грязи.
Послал его Илья на кухню, картошку чистить.
Проклятые горы…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Человек свободной воли может бороться. Он сам повинен в своих лишениях, муках. Гордый, смелый боец или побеждает, достигает цели — или гибнет, но не позорит себя беспомощным прозябанием.
Но что остается в удел человеку за решеткой? В его воле одно: хорошо умереть. Сколько их, забытых по тюрьмам?..
О них после. Сейчас ожидают смертной казни Сидорчук и Маруся.
Не прошло и месяца со дня их ареста, как следствие закончили, и военно-полевой суд приговорил их к расстрелу.
Их везли из Геленджика на пароходе. Дорогой били: видно, в застенках не излили на них всю злобу. Сидорчук держался гордо, как плененный орленок, Маруся со слезами в голосе повторяла:
— Все равно ничего не добьетесь от меня, хоть на месте убейте.
Теперь они сидели в одиночках смертников, Маруся была одна в камере: женщин редко расстреливают. Вместе с Сидорчуком было три смертника: молодой паренек, всклокоченный, грязный, заброшенный волной революции с севера; другой — смугляк (у него на груди разрисована головка женщины, на руке — якорь), третий — бледный, костлявый, длинный.
Четыре живых мертвеца, четыре зеркала, в которых отражался их ужас. Сидорчук, подставив к стене чей-то чемодан, простаивал долгие часы, опершись на подоконник, устремив через решетки тоскливый взор свой вдаль, за море, в те хрустально-голубые горы, где оставил он пятую группу. Так одинок был, как листок оторванный порывом ветра от большого дерева… Он еще владел собой; как крышкой крепко захлопнул бурные переживания, внимательно следил, чтобы не вырвались они наружу, не захватили врасплох, не увлекли его в пучину отчаяния, малодушия.
Но эти, три, они подолгу ожидали смерти, их натуры уже сломлены, они — ужасны. Крепкий смугляк решительно мечется по камере, как зверь в клетке, готовый проломить дверь, вывернуть решетки, но увы… они не поддаются: тюремщики рассчитали силу человека… Он всклокочен, взор его дикий, бессмысленный, пьяный. Временами он громко посылает врагу проклятия, скрежещет зубами… Паренек забился в угол, скорчился, сцепил колени руками и воет, как волк, протяжно, дико… Длинный, бледный сидит в углу против него. Кто из них кому подражает? Кто кого заражает? И он сидит, скорчившись, охватив колени длинными, как у скелета, пальцами. Он безжизненный, вялый, полумертвый. Молчит.
С утра они обычно стихают, вытягиваются на своих логовищах, упорно смотрят в заплесневевший потолок, силясь заглянуть в тайну смерти, вообразить себе мельчайшие подробности ожидающего их расстрела, передумать в последний раз все, что еще не передумано. Мучают мысли, сжигают мозг, утомляют сердце, но нет сил прогнать их.
Но проходит день, сгущается мрак, сильнее выступает ужас смерти, чудятся притаившиеся за дверью палачи, готовые ворваться, наброситься на обреченных, потащить их убивать, — и нарастает возбуждение, тревога, словно черная гора на них валится; решительней мечется по камере смугляк; вскакивает и пьяной, ковыляющей походкой начинает шагать бледный, костлявый, как мертвец; за ним схватывается неуклюжий, как щенок, парень — все мечутся, обезумевшие, опьяневшие; сталкиваются, отскакивают в ужасе — и снова бегают. Чуть шаркнет где-либо засов или принесут ужин, как все замирают; дико вскрикивает паренек — и забивается в угол…
Они ждут каждую минуту… Вот загремит засов, ворвутся сильные, здоровые, жилистые, выхватят жертву, скрутят ее, зажмут рот, заткнут тряпкой — и потащат, как труп…
Стучат шаги смертников, как земля — по крышке гроба…
Смугляк вдруг остановился, просиял: «Спасение!» — Бросился к своему логовищу, начал рвать подкладку пальто, разрывать ее на ленты, скручивать их, связывать, натягивать между руками, испытывая прочность. Изорвал — мало. Сдернул с себя верхнюю, нижнюю рубаху — мускулистое тело упруго откинулось. Рвет рубахи. В недоумении глянул на него костлявый догадался: «Спасение! Давно об этом думал!» Изогнулся, стянул с себя рубахи — вытянулся белеющий в темноте скелет. Рвет рубахи… Паренек тоже рвет. Торопятся: каждая минута дорога…
Вскочил смугляк: веревка готова! Бросился к окну, привязал конец к решетке, другой — вокруг шеи мотает… В недоумении замерли все: всклокоченный паренек, Сидорчук, костлявый. Потянулись их туловища к нему… Только собрался смугляк стремительно падать, как бросились к нему все трое, схватили, грубо дергают, разматывают веревку…
Страшно взвыл смугляк, разбежался к двери, хряпнулся головой с разбегу, — и, зарычав от острой боли, свалился назад…
Ужас переполняет камеру; они захлебываются в нем, обезумев, воют зверями, не понимая, кто, где воет; они ощущают лишь кошмар.