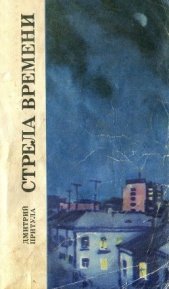Четвертый разворот (сборник)
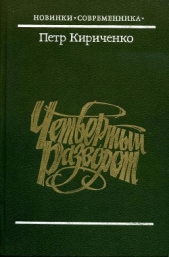
Четвертый разворот (сборник) читать книгу онлайн
Новую книгу ленинградского прозаика Петра Кириченко составили рассказы и повесть «Бегство из круга». В ней писатель, летчик по профессии, точно и ощутимо воссоздает трудовые будни экипажа авиалайнера и его командира Рогачева. Основной психологический конфликт повести — столкновение различных жизненных позиций ее героев.В рассказах П. Кириченко продолжает исследовать характеры современников, показывая их в момент серьезных нравственных испытаний, когда сущность человека проявляется с наибольшей полнотой.П. Кириченко — автор сборника «Край неба», изданного «Советским писателем».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Торговый человек?
— Нет, а что?
— Да так, — уклончиво проговорила она. — Может, достал бы что, если на базе.
— Ну, что именно? — поинтересовался я, подумав, что уж этой-то женщине ничего не надо: дом, сад, рядом море,
— Мало ли что потребуется, — ответила Нина Васильевна, показала, как справиться с хитрым замком калитки, и пошла в дом. Я же отправился на море, до него и ходьбы-то было минут пять.
В первую же ночь, когда я сидел на пороге своего домика, смотрел в темноту и на проглядывавшие сквозь листья звезды, на заборе появилась какая-то тень. Что-то хрустнуло неподалеку, и воришка, верно еще днем наметивший краснобокие яблоки, сторожко замер, не решаясь спрыгнуть в сад. Сидя на заборе, как на лошади, он прислушивался, но вокруг было тихо, и это его успокоило. Как только он занес ногу, намереваясь спрыгнуть, я заскулил маленькой шавкой и смолк. Он снова замер, и снова вокруг было тихо и спокойно, как бывает в саду в погожую летнюю ночь. Где яблоко глухо стукнет да ветка, освободившись, шумнет, а так — удивительная тишина. Воришка решительно перекинул ногу и хотел спрыгнуть, но я залаял так испуганно и звонко и вслед за этим зарычал, как рычит только знающая себе цену собака, что его сдуло с забора. Убегая, он затопотал ногами по асфальту, но вскоре и это растаяло. Стало жаль беднягу и вспомнилось, как я сам, бывало, шастал ночами по садам, не боясь особенно ни хозяев, ни собак. Собаки относились ко мне терпимо, и если и лаяли, то беззлобно, будто бы знали, что много я не возьму... Нина Васильевна возникла в окне белым видением и со сна сердито зашипела:
— Замолкни, Шайтан! Отравить тебя мало! Я тебе!..
Затем, видать, вспомнила, что собаки уже нет, выругалась по-мужски крепко и пропала в темной глубине комнаты.
Лаять я научился в детстве, когда, как говорила моя мать, оставался один на хозяйстве. Если, конечно, считать хозяйством приблудившуюся курицу и щенка Шарика. Курица была глупой и доверчивой и требовала только, чтобы ее не прогоняли, и каждый вечер устраивалась спать на ветке вишни. Шарик проявлял непутевый характер и настырно ломился в дом. Курицу мы съели, несмотря на то что привыкли к ней, а Шарик, повзрослев, убежал на поиски лучшей доли. Мать моя занималась тогда тем, что доставала тетради и учебники для школ, и часто, оставив мне буханку хлеба, маргарин и пятерку денег, уезжала в непостижимо далекие для меня Прилуки. Она целовала меня, плакала и наказывала никому не открывать дверей, повторяя не в первый раз, что обернуться за день она не успеет и возвратится завтра к вечеру. Она просила не тратить деньги на мороженое, а сходить в столовую. Мне было шесть лет, и я легко обещал выполнить все ее просьбы в точности, но как только мать выходила за дверь, я забывал решительно все: допоздна гонял с дружками по улицам и, не вспоминая о столовой, тратил деньги на кино и мороженое, а вечером, накинув на дверь кованый крючок, жевал хлеб и читал по складам «Даурию», которую мать постоянно прятала и которую отыскать в нашей комнате было совсем просто. Я никого, кроме цыган, не боялся, а их тогда было множество. Они без устали кочевали и, бывало, надолго разбивали шатры неподалеку от железнодорожного вокзала. Днем их гортанная речь полоскалась по дворам. Я откуда-то знал, что они крадут маленьких детей, и, едва заслышав около дома чьи-то шаги, лаял так, как лаял когда-то Шарик. И тем спасался.
Сегодня это умение пригодилось мне, наверное, в последний раз, и, сидя на пороге, я подумал, что только в детстве можно свято верить, что лай с чужого голоса способен защитить. Воришка, которому так и не удалось попробовать яблок, наверняка давно спал, а я все сидел в темноте и тишине ночи, смотрел, как над ветками яблонь уносилось раскинувшееся крестом созвездие Лебедя, и думал о том, что, сколько ни пытайся, не сможешь постичь ни жизни, ни звезды, ни себя, и, возможно, самое лучшее — и не пытаться, и счастлив тот, кому от рождения дарована способность просто жить и, если и удивляться чему-то, то не особенно, так сказать, в разумных пределах. Но с другой стороны — каковы эти пределы? Да и должен ли человек ограничивать себя и жить так, словно бы ему заранее известен предел. Вопросы! Похоже, я хотел убежать от них, и мой приезд на 12-ю станцию напоминал самое примитивное бегство, хотя я убеждал себя, что море излечивает все болезни, что я должен загореть и стать настолько здоровым, чтобы комиссия разрешила мне летать.
Вспомнилась невропатолог, и я пожалел, что мне не пришлось изучать латынь, как не пришлось изучать многое, и сожаление мое было сродни сожалению обо всем том, чего я не знаю и не узнаю никогда.
В эту секунду коротким росчерком вспыхнули одновременно два метеорита, и я подумал, отчего раньше люди связывали их падение с закатом чьей-то жизни, говоря: «Душа покатилась». Мы теперь не верим в это, но загадка осталась, как, впрочем, и душа. А в небе теперь не только звезды, метеориты и сияние, но и огни самолетов. В сущности, мы не знаем, что они несут. Быть может, глядя на них, так же как и на сполохи сияния, мы видим то, чего не способны еще понять?
Думая обо всем этом, я почувствовал, до чего меня тянет в самолет, в тесную пилотскую, — мне хотелось услышать веселый голос Саныча, увидеть молчаливого механика. Я понимал, что смогу прожить и без полетов, понимал, что расставание когда-нибудь да наступит, но все же только теперь я почувствовал, что наказан: нигде на ощущаешь себя с такой силой, как в самолете. И причина здесь проста: каждый раз, сам того не понимая, отрываешься от земли навсегда.
Я верил, что пройду комиссию, начну работать, и единственное и самое страшное, что мне оставалось, — это пережить ожидание сентября. Ведь только это и гнало меня из Ленинграда: я надеялся, что новое место поможет забыть полеты, ожидание, мысли и вопросы. Я надеялся, понимая, что ничего подобного не произойдет: разве удавалось кому-нибудь убежать от себя? Я знал, что здоров и мне не требовался никакой отдых, настолько здоров, что вполне могло сбыться шутливое предположение Саныча, который летает себе, ездит в деревню, думает о дочерях. Однажды мы столкнулись с ним в аэропорту, поговорили, как водится, о работе и пожали руки, расставаясь. Он задержал мою в своей и вдруг сказал:
«Ты не особенно жалей, все это так и должно быть. — Помолчал и добавил: — Я вспоминал тебя».
Я шутливо поблагодарил его, и мы расстались: Саныч пошел к диспетчерам, а я отправился в штаб. Надо знать Саныча, чтобы оценить скупые слова в полной мере. Саныч по-своему повторил председателя комиссии, которая утверждала, что я буду благодарить ее за эти шесть месяцев. Что ж, приходилось соглашаться: за это время я как-то по-другому взглянул и на полеты, и на людей и понял, что и звезды, и бездонное небо, и самолеты — все это сама простота по сравнению с душой человека. Можно было бы посмеяться над собой, поскольку я открывал очевидное, если бы не мысль о том, что не так давно я думал иначе. Мне стало ясно, что мой бывший командир пришел к тому, к чему он тяготел — к предательству, и пришел еще до гибели Татьяны. Понял я и то, что погубил ее не Рогачев, а я сам, поскольку не любил. Да и никто ее не любил, и отсюда недалеко до мысли, что в ее гибели повинны все, знавшие ее. Наверное, об этом и хотел сказать доктор со «скорой помощи», утверждавший, что была еще какая-то причина. Эта причина — мы все, построенная нами жизнь и та легкость, с которой мы оправдываем любой свой шаг. Более того, мы сделаем такой шаг, а обвиним кого-нибудь другого, благо найти «достойного» не составляет труда: ведь все глупее нас, живут не так, говорят не то... Я тоже полагал, что поступаю так или иначе только потому, что меня заставляет Рогачев; думал даже о том, что он может влиять на судьбы людей. Смешно, но в этом смехе, проглядывает и серьезный вывод: с такими, как Рогачев, главное было не в том, чтобы перехитрить их, а в том, чтобы не жить по тем законам, которые они подсовывали. Мне было стыдно вспоминать, как я следил за Рогачевым, как пытался угадать его мысли, как спрашивал продавца о часах и как мы оказались вчетвером в комнате Татьяны. Ведь это я подтолкнул ее к игре, потому что хотел проверить. Слишком поздно я понял, что Рогачев дал ей часы для того, чтобы посеять в моей душе сомнение. Он знал, что именно сомнение разведет нас с Татьяной. Он и книжку записную мне показал, понимая, что я не пройду мимо, стану думать — он ведь и хотел, чтобы я думал о чем угодно, но только не о себе. Теперь мне стало понятно, отчего же он боялся отказа, приглашая на день рождения Глаши: я ведь мог и не пойти, а значит, не принял бы его игры. Я понял это слишком поздно, как, впрочем, и то, что естественность должна цениться в человеке превыше всего: играющий простачка так же смешон, как и глупый, изображающий из себя умного. Кажется, я знал все это и раньше, отчего же знание не помогало жить? Я ведь знал, что ничего не проходит бесследно, это так же верно, как и то, что все на свете проходит; возможно, между этими двумя понятиями я и заблудился?