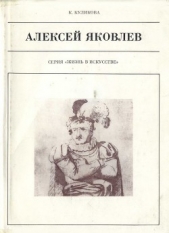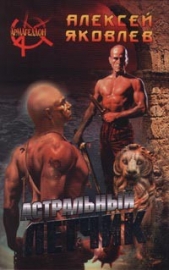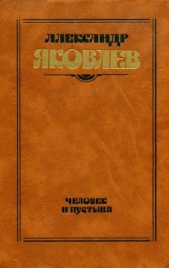Человек и пустыня
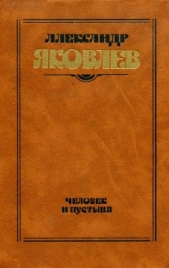
Человек и пустыня читать книгу онлайн
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Виктор Иванович спросил тестя:
— А у нас как?
— Что ж, в конторе все хорошо. Мурыгин работает — лучше не надо.
— Да, работает. Проехал я по Волге. Был в Нижнем, в Симбирске, в Самаре, во всех конторах пока хорошо. Подобрался народ подходящий.
Василий Севастьянович самодовольно усмехнулся:
— А ты как думал? Не без головы подбирали. Вот сейчас к тебе Мурыгин придет, доложит обо всех делах.
— Ну, а у тебя, Вася, как дела?
— У меня неплохо, — молодым ломающимся баском загудел Вася. — Я написал сочинение о своей заграничной поездке, вчера читал перед всем классом. Никольский очень хвалил слог.
Соня, неловко передергивая костлявыми плечами, сказала капризно:
— Мне дали такую же тему. Прошу Васю помочь, он отказывается…
Виктор Иванович усмехнулся:
— И правильно делает. Ты должна сама написать.
Василий Севастьянович заворчал:
— Уж эти ваши заграницы! Конечно, вреда большого нет в них, а только не рано ли ты, зятек, таскаешь моих внуков туда?
— Почему же рано? Разве вы забыли, папаша, поговорку: чужая сторона прибавит ума? Вот видите, Вася отличился — написал хорошее сочинение.
— Так-то так, а только ездить-то надо с умом. Вот Митя Спицын все страны объехал, а чего набрался? Где как едят да как пьют. И все тут. Дурак дураком остался. Только нос дерет зазря.
В передней кто-то кашлянул. Василий Севастьянович обернулся:
— Вот и Мурыгин идет. Петр Никанорович, здравствуйте! Пожалуйте, пожалуйте! Вот он, наш главный-то, приехал.
Мурыгин входил в столовую, кланяясь и улыбаясь. Расчесанная шелковая борода закрывала всю его грудь. Белый лысый лоб — очень высокий — сиял, глаза наметились как щелочки.
— Доброго здоровьица! Как изволили путешествовать? Очень приятно видеть вас, Виктор Иванович! Заждались. Соскучились.
Он по-кошачьи мягко обошел весь стол, здороваясь с каждым, каждого называя по имени и отчеству, и Соню даже — Софья Викторовна.
После чая трое — Виктор Иванович, Мурыгин и Василий Севастьянович — прошли в кабинет.
Мурыгин положил на стол широкий лист, испещренный цифрами, — баланс. Виктор Иванович мельком взглянул на последнюю цифру: там стояли миллионы. Неторопливо, особенным — вкрадчивым и важным — голосом и особенным цветогорским языком, грубо на «о», вставляя славянские слова, Мурыгин рассказал о делах. Виктор Иванович задал несколько коротких вопросов, так, в полусловах, в полунамеках, и по этим очень коротким вопросам было видно: он знает каждый винтик в своем хозяйстве.
Василий Севастьянович слушал его восхищенно, как музыку, полновесно вздохнул:
— Волга-то, Волга что делает! Гляди, в последние пять годов такие дела, что ни сном ни духом не услышали бы прежде. Эх, уходит мое время! — Он хлопнул обеими ладонями себя по коленям. — Годков бы двадцать с костей — пустился бы я теперь в пляс!
Мурыгин почтительно улыбнулся:
— И теперь, Василий Севастьянович, вам нельзя бога гневить. Куда еще лучше?
— Да я не гневлю, а так — все кипит, горит, и самому мне хочется… подраться. Как бывало-то… встрянешь в какое дело, так игра такая, аж волосы дыбом!
Виктор Иванович усмехнулся, потом сразу стал серьезен, заговорил, раздумывая:
— Как это ни странно, а революция подбодрила не только нашу Волгу, но и всю Россию. В самом деле, папаша, вся Россия заработала. Сибирь, Урал, Кавказ, Туркестан — везде строят, везде делаются совершенно небывалые дела. И капиталисты у нас появились совсем американского типа, с каким-то необычайным размахом. Узнать нельзя: русские ли?
— Я там про другую Россию не знаю, — горячо перебил Василий Севастьянович, — я вот только на Волгу дивлюсь. Пароходы-то какие! Баржи-то какие! Батюшки!
— И нет ничего мудреного. Волга — дело сильное. Поволжские города растут небывало. Россия передвигается на юго-восток. Скоро наши места будут самыми центральными.
Василий Севастьянович посмотрел на зятя прищуренным глазом.
— Да, да. Всяк кулик свое болото хвалит. Ну, будет об этом! Ты показывай, что привез из Москвы. Привез ведь?
— Как же! Рукописи привез, икон несколько хороших, книжки кое-какие. Пойдемте в залу, там будет удобнее.
Он позвонил, велел перенести в залу чемоданы и дорожные сундуки, распаковать и вещь за вещью развертывал сам. Пришли Вася и Соня. Соня оживилась, побежала назад в столовую.
— Бабушка! Мама! Идите, папа много интересного привез.
Виктор Иванович вынул черную икону.
— Вот Благовещение строгановского письма.
Он подал икону Василию Севастьяновичу. Тот, крестясь, взял, посмотрел, передал Мурыгину.
— Вот это московских писем Неопалимая Купина, а это шитье пятнадцатого века — совсем редкое дело, у Силина достал. А вот книжка интересная: «Трубы на дни». Почаевская печать семнадцатого века, всего только пять экземпляров осталось этой книжки.
— Пять? Почему мало?
— Эта книжка была объявлена еретической и тогда же, в семнадцатом веке, сожжена. Посмотрите на эту гравюру. Иисус Христос в итальянской шляпе. Единственная гравюра в мире, когда Иисуса Христа изобразили с покрытой головой.
— А ты псалтырь какой-то обещал достать.
— Тоже достал.
Мурыгин насторожился:
— Какой псалтырь?
— Псалтырь, напечатанный в Александровской слободе при Иване Грозном. Иван Грозный уехал из Москвы в слободу, устроил там свою опричнину, казнил да мучил всех, а между тем и типографию там же открыл, псалтыри печатал. Вот она — Россия: и кровь, и казни, и… псалтыри. Сто псалтырей было отпечатано. Вот один из этой сотни.
Все наклонились над небольшой книжкой в кожаном переплете.
Васю и Соню мало интересовали книги и иконы, больше куски шелка, вышивки, картины. Фима почтительно посматривала из-за плеч, умиляясь. Ей передавали вышивки, шелк, она рассматривала с особенным, повышенным старанием и восхищенно покачивала головой. И горничная Груша вертелась тут же, и повариха Марфа, вытирая руки о фартук, остановилась у двери, и в глубине коридора, за дверью, мелькали чьи-то лица — много, мужские и женские, — лица тех, кто не решался войти в комнату.
Виктор Иванович посматривал на всех и чуть-чуть улыбался, слушая восхищенный говор. Елизавета Васильевна возилась с картинами — одну за другой перебирала их и оглядывала стены, где какую можно повесить. И невольно он тянулся глазами за ее взорами, так же осматривал стены, примерял, куда, как, которую повесить. Чувство уверенного довольства: картины будут повешены правильно, на месте, дом — родной дом — еще украсится и еще станет уютней, — чувство собирателя и созидателя наполняло все тело довольством, покоем, ленью. Будто долго-долго он ездил где-то (сильно работал, готовился). Этапами были и реальное училище, и академия, и Америка, и беспокойные поездки по Заволжью, и заграница. Ныне — пристань, ныне — покой.
Василий Севастьянович развалился на кресле — никогда прежде и не видел его никто в такой позе: всегда он был энергичен, подвижен, сух; теперь самодовольно поглаживал бороду, лицо задрал к потолку так, что зачернелись круглые ноздри, сказал важно:
— Да-а, игрушки ничего себе, барские!
Елизавета Васильевна посмотрела на него через плечо, засмеялась.
— Что ты, папа, называешь игрушками? Иконы, может быть?
Василий Севастьянович встрепенулся.
— Ну, ну, что это ты? Разве можно так про иконы? Я про эти вот бирюльки-то говорю, гляди, что держишь… голую барыню… Знамо, время теперь не то. А бывало, за такую картинку прямо в участок отводили: не соблазняй народ. Эх, грехи, грехи!..
Виктор Иванович пристально смотрел на сына, на дочь: как они? что они?
Вася снисходительно улыбался, слушая дедушку. И в этой улыбке было что-то наигранное. «Барина валяет!» — вдруг вспомнил Виктор Иванович слова Вани. Сколько раз при нем Ваня ругал Васю «барином»…
«Откуда у него?»
Соня вся погружалась в шелка, расстилала их по креслам.
Дом, родной дом!..
А годы… а годы, словно волжская вода, текли неудержимо: один за другим.. Еще год прошел и еще. Уже и Вася окончил реальное и этой осенью собирался поехать в Москву, но не в академию, как его брат, а в Техническое училище, чтобы быть инженером, строить. Он бунтовал: требовал, чтобы его пустили в кавалерийское училище («Хочу быть Суворовым!»); в доме целый месяц была гроза, склока — и дедушка, и обе бабушки, и мать уговаривали, чтобы Вася не блажил… И только уже отец в конце концов вмешался твердо: