Том 3. Рассказы. Воспоминания. Пьесы
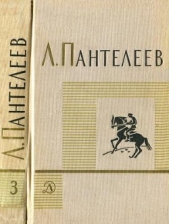
Том 3. Рассказы. Воспоминания. Пьесы читать книгу онлайн
В настоящее четырехтомное собрание сочинений входят все наиболее значительные произведения писателя. Состав томов и расположение материала по тематическому принципу предложены самим автором.
В третий том вошли рассказы о подвиге, рассказы о детях, маленькие рассказы, воспоминания, одноактные пьесы.
Рисунки П. Тырсы и И. Харкевича.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Снова дрожит нижняя губа, и снова белый ситцевый уголок плотно прижимается к одному и к другому глазу.
– Вот, милый дружочек, вот как у нас дела-то нехорошо завязались. Много ли, я не знаю, времени прошло, не успела оглянуться, а тут и большая, Отечественная война началась. Федя – тот сразу ушел, а через полгода и Ваню моего забрали. Осталась я одна… Ох, и вспоминать не хочу! Ох, уж эти ночки темные, ночки долгие, когда, глаз не смыкая, лежишь и все думаешь, думаешь… И все это видишь, как немец ползет и из ружья в голову им стреляет… А днем я – ничего, держалась. Помню, сосед у нас был, Михаил Фролыч, пьяница и охальник ужасный… Он увидит, как я на дворе ковыряюсь чего-нибудь, и начнет из-за плетня мне кричать: «Эй, бабка! Марья Степановна! Ползаешь еще? Помирать пора!» А я ему: «Нет, говорю, сосед милый. Пока до победы не доживу, пока сыновей не встречу, помирать не согласна. Войну кончим, сыновья вернутся – тогда, сделай милость, хорони меня хоть с музыкой». А ведь – нет, не привелось мне всех-то встретить. Один вернулся, да и тот – не человек, а обрубок…
Ничего, ничего, милый… Ладно… погоди… я сейчас… Фу ты, будь ты неладный! Куда ж он задевался, платок-от мой? Уж ты извини меня, человек хороший! Ведь вот уж, кажись, давным-давнешенько все слезы-то выплакала, ан нет! Вспомнишь все-то, растеребишь себя, ну и – опять нос мокрый. Ты сиди, сиди, не уходи, я доскажу. Про Ваню я начала… Одним словом, узнала я, что Ваня мой тяжело ранен, что ему руку осколком оторвало, и не совру тебе, милок, – обрадовалась грешным делом. Думаю, хоть какой-нибудь, хоть инвалид, а все живой домой-то вернется. А как увидела его, как встретила его на станции – о господи! – и не узнать парня! Был он всегда у нас такой веселый, просмешливый и на лицо очень хороший, а тут гляжу – будто и не он. Весь какой-то пожелтелый, темный, не улыбнется никогда, слова лишнего не скажет. На койку на свою завалится и лежит. Очень он тогда, бедняжка, переживал, расстраивался. Боялся, что работать ему уж не придется. Ведь ему левую-то руку по самое плечо ампутировали, да еще и на правой эти вот два пальчика прихватили. А он у меня, Ваня-то, образованный – девять классов кончил, после школы в институт налаживался поступать. Ну а уж тут, думает, какие там инженеры… Ведь он у меня, ты знаешь, и ложку-то не сразу навострился держать. Ох, голубь, тяжело мне с ним было! И без него худо, и с ним нехорошо. Уж я его и так и этак. «Сходи, мол, погуляй, Ванечка. Что же ты, мол, все лежишь этак-то? Ты же еще молодой, здоровый». – «Ладно, – говорит, – мама. Не говорите, мне, пожалуйста, таких слов. О каких тут прогулках может быть речь?!» – «Ну, – говорю, – по хозяйству что-нибудь полегче сделай. Вот, – говорю, – забор у нас валится, поправить бы надо». Он не ответит, только зубами заскрипит и – подушку этаким вот манером на голову. А один раз, гляжу, встал, походил по избе, в сени вышел, ищет чего-то. «Ты, говорю, чего там, Ваня?» – «Топор где у нас?» – «Там-то, мол, за ведрами»… А сама думаю: зачем ему? Испугалась: думаю, худого бы чего не сделал, бедолажкин мой! За ним, правда, не пошла, а бочком этак у окошка стала и гляжу, наблюдаю… Вижу, во двор вышел, топор у него под мышкой, в культяпках своих банку с гвоздями еле как несет, к животу притиснул. Стал забор налаживать. Одную доску там всего-то и надо было гвоздями прибить. А уж он и так и этак. Никак ему, сердешному, гвоздик не приладить. Помочь хотела, думаю – нет, обидится. А он повозился, помучился, видит – ничего не выходит, осерчал, расстроился, топор с маху в доску всадил и – в избу. На кровать повалился, в подушку лицом упал и, вижу, весь так и затрясся.
Опосля-то уж Ваня мой наловчился и всякую работу мог хорошо производить. И писать научился, и на счетах щелкать; и бритвой бреется, и дрова рубит, и гвозди заколачивает. Засечку маленькую топором сделает, гвоздик вставит и бьет, забивает чего надо. А в ту зиму он ужас до чего горевал. И есть не хочет и спать не желает. Нервный стал. Чуть что – порох!
И вот, милый, в аккурат в это самое ужасное время – хлоп меня еще раз по темечку! Прибегает как-то утречком девочка соседская: «Бабушка, мол, Корытова, беги скореича, в сельсовет тебя требуют». Ну, я платок накинула – побежала. «Что, – думаю, – за спешность такая?» Прибегаю: «Здравствуйте, зачем звали?» – «Да вот, – говорит, – по невеселому, – говорит, – делу тебя позвали. Получи, Марья Степановна, и распишись». И подает мне похоронную. «Так, мол, и так, ваш сын ефрейтор Федор Корытов погиб за Советскую родину 18 февраля»… Ну тут, сам понимаешь, подсеклись мои ноженьки – на коем месте стояла, там и грохнулась. Отпоили меня, в чувство привели. А я кое-как очухалась и думаю: «Что же мне делать? Нет, – думаю, – Ваня об этом знать не должон. Опосля как-нибудь скажу, а сейчас – не буду, смолчу».
С тем и домой пошла. А он будто учуял чего. Подхожу, вижу – вот он, на крылечке мой Ваня стоит.
«Ну что? – говорит. – Зачем вас, мама, вызывали?»
А я ему и соври:
«А! – говорю. – Глупости! Ошибка там вышла. Не Корытова, мол, им, а Короткова требуется».
«Что за Короткова? Не помню, – говорит, – какие это Коротковы у нас?»
Ну я как-то отчудилась в тот раз. А только и он ведь у нас не дурачок. Не поверил мне. Весь день, помню, глаз с меня не сводил. Ходит за мной и смотрит. А вечером поздно, когда уж в постели я лежала, подошел в темноте и спрашивает:
«Федю убили?».
Ну что ж, милый, не соврешь ведь в этакой-то час.
«Да, – говорю, – Ванечка, убили».
Он постоял, постоял, руку мне культяпкой своей потрогал и к себе пошел.
И вот ведь, гляди, чудо-то какое! В аккурат с этого дня будто подменили Ваню моего. До этого сычом дома сидел. Ни в лавку его, ни на собрание, ни к друзьям-товарищам калачом не заманишь. А тут – будто очнулся. Веселей-то он, конечно, не стал, а все-таки действовать начал. Туда, сюда – и в сельсовет, и в правление, и в ячейку свою партийную стал ходить. И по хозяйству все, что надо, сделает.
А я тем часом успела насчет Феди в часть ихнюю написать. Думала – может, и на его могилку слетать успею. Да нет, не вышло. Ответили мне, правда, быстро. Хороший человек написал, начальник Федин. Все он мне подробно рассказал. Погиб, мол, Федя в Померании, при взятии города Пфальценберга. Там его, в этом городе, и земле предали. А где она, эта Померания, и что это за Пфальценберг такой – бог их ведает. После-то мне, правда, Ваня объяснил, что это где-то в немецкой земле, далеко очень, туда и с пересадкой не доедешь…
Ну вот, дядечка. Тут и сказке моей конец. Стали мы с той поры жить вдвоем с Ваней. Он, я говорю, как Федю-то убили, быстро в колею взошел. Голову-то уж не вешал. Живой, мол, так надо жить. Звали его в разные места работать – и в сторожа определяли, и клубом заведовать, и даже в какую-то полотерную артель знакомый инвалид сманивал. Только он ничем этим не прельстился. «Нет, – говорит, – я еще молодой, буду учиться». Разложил опять свои книжечки и тетрадки, прошел заочные курсы и полтора года счетоводом у нас в потребсоюзе работал. Потом в Ярославль его посылали – в областной школе занимался. Инструктором в райкоме состоял. А в сорок девятом, кажись, году приезжает один раз из Углича: «Мама, – говорит, – такое у меня к вам предложение. Не желаете ли поехать со мной жить на постоянно на Карельский перешеек? Там новые колхозы создаются». – «Ну что ж, – говорю. – А не знаешь – от Васиной могилки далеко это будет?» – «Нет, – говорит, – по моему расчету, не может быть, чтобы очень далеко. Это под Питером».
Ну вот и поехали. И живем тут. А только могилку-то Васину я, милый, не сразу тогда отыскала. Ведь пока война, пока что – здешний-то народ все наши солдатские могилы разорил и все тумбочки вот эти повыкидал. Уж я в тот раз искала, искала, все глаза выплакала. Чудом нашла! Каким, говоришь, чудом-то? А вот слушай. Лазаю это я тогда через бурьян да через крапиву и вдруг вижу – заколка лежит. Эвона она…
Старуха выпростала из-под платка жиденькую седую косицу, отстегнула и показала мне зелено-коричневую пластмассовую, грубо сработанную «под черепаху» булавку.


























