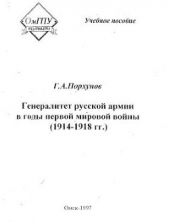Чаша терпения

Чаша терпения читать книгу онлайн
«Чаша терпения» — роман о дореволюционном Туркестане, охватывающий период с 1900 по 1912 год.
…Надежда Малясова, сестра милосердия, приезжает из Петербурга в Среднюю Азию, где без вести пропал ее отец. Она из тех передовых русских интеллигентов-энтузиастов, которые приехали с гуманной миссией просвещения и медицинской помощи местному населению.
О многих интересных человеческих судьбах, об исторических событиях того периода повествует А. Удалов.
Этот роман — начало задуманной автором эпопеи, которую он намерен довести до наших дней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Работающий для хорошего дела не попадает в ад! — повторил он еще раз.
— Истинно так! — раскачиваясь всем корпусом при каждом слове, сложив руки на животе, подтвердил мулла Мирхайдарбек-ходжа.
— Истинно! — кивнул головой Хашимбек.
— Истинно, истинно, — словно старый ворон, с клекотом и хрипом прокаркал знахарь Бабаходжа.
Балтабай закусил свой левый ус уголком рта, опустил голову, помолчал. После ареста Декамбая появилась у Балтабая эта привычка — прикусывать левый ус, именно тот ус, который прежде в минуты гнева первый начинал по-кошачьи вздрагивать, а потом вместе с правым усом пикой устремлялся навстречу обидчику.
— Для хорошего дела мы бы не прочь… не прочь бы… Да ведь земли своей нет, — сказал он с грустью.
— Если труд земледельца на своей пашне аллах многомилостивый и справедливый признал доблестью, то труд земледельца на ниве другого правоверного мусульманина он признал первейшей обязанностью, за выполнение ее люди и попадают в рай, — степенно проговорил Мирхайдарбек-ходжа.
— Ну уж это вы не скажите! — вдруг громко засмеялся Балтабай, но чем-то поперхнулся, закашлялся, привстал с пяток на колени, посмотрел через плечи сидящих на голубой водоем, сказал, часто прицокивая языком — Ц-ц-ц!.. Ай, ну и красота этот ваш хауз, хозяин. Видел я когда-то на картинке сад достопочтеннейшего хана хивинского. Так в том хаузе лодка была еще нарисована. Вот бы вам, хозяин, такую лодочку сюда, а?
Абдулхай промолчал, насупившись и склонив голову, увенчанную тяжелой чалмой. И Балтабай вдруг, уже не с подобострастием и умилением, а со страхом, посмотрел на его парадный костюм волостного управителя, в котором Абдулхай сидел все это время. Новый черный халат у волостного был обшит по бортам золотой парчой, длинные рукава, которые он не засучивал, когда ел плов, а лишь поддергивал повыше к локтям, тоже были украшены на конце двумя парчовыми лентами. Вместо бельбага волостной был подпоясан голубым бархатным поясом, унизанным серебряными пластинками и массивной, величиною с ладонь, серебряной пряжкой с какими-то крупными и мелкими драгоценными камнями, названия которых Балтабай не знал. Несколько раз он принимался считать медали, которыми был увешан волостной от правого плеча до левого, но каждый раз сбивался, потупив голову перед блеском и величием этих царских наград. В самом деле, нельзя же было, как ребенку, вытаращить глаза и бесцеремонно пересчитывать эти медали пальцем, хотя и любопытства и благоговения к этим медалям у Балтабая было столько же, сколько у ребенка. Но больше, чем халат с парчовой оторочкой, с низким стоячим воротником, который скрывался спереди за черной с проседью бородой Абдулхая, больше, чем медали и серебряная пряжка на поясе, чувство благоговения и страха у Балтабая, а может быть, и у всех остальных присутствующих вызывала сабля в ножнах из черного кованого серебра, которую волостной не снял даже во время трапезы, а лишь положил ее на колени, приспустив с плеча ремень.
Поглядев сейчас опять на волостного, Балтабай вдруг почему-то вспотел, наклонил голову и поспешил пальцем затолкать в рот свой левый ус. «Уж это вы не скажите! Ах дурень! Вот дернул меня шайтан за язык. А все Декамбай. Он меня натравливает на такие речи. Вот его нет здесь, а все равно он будто рядом», — думал Балтабай и вдруг, выплюнув изо рта мокрый ус, со злостью, больно прикусил кончик языка передними зубами. «Вот тебе! — сказал он мысленно. — Сколько раз себе говорил: «Язык мой — враг мой». Так нет. Надо было…»
— Ну так что, ваша милость, — сказал он вслух Абдулхаю. — Видно, в чем-то помочь есть нужда?
«Ну вот, опять «видно»… Видно, это, стало быть, так… без всякой охоты…» — снова с негодованием на самого себя подумал Балтабай.
— Сказано тебе, Балтабай: работающий для хорошего дела не попадает в ад, — снова спокойным и степенным голосом сказал мулла. — А ты… хоть если и скажет тебе наш многочтимый хозяин — любимец аллаха милостивого, милосердного… за счастье должен почитать труд на земле… на земле, которая принадлежит нашему хозяину.
— Ну так ведь я и так… готов, хоть сейчас, хоть сейчас готов, скажите только…
— Да ведь ты не хочешь! — вдруг грозно сказал Абдулхай.
Балтабай онемел. Сидел на пятках и молчал.
— Хочет он. Хочет. За счастье для себя почтет, — ответил мулла вместо Балтабая, выручив его из беды.
— Ты мне полей хлопчатник, Балтабай, — сказал волостной. — Двести десятин.
— Двести десятин?! Один я?! У Балтабая подпрыгнул ус.
— Да не один. Вот они сидят — твои помощники. Карим и Турсун.
— Карим и Турсун?..
— Ну! Вон какие молодцы-удальцы.
— Стало быть, надо… Я не прочь. Надо. Только вот пусть господин мираб… свою волю… ну там насчет воды, что надо, пусть скажет.
— Кому это мы будем говорить, дурья башка? Ну? Если сам волостной тебе приказал? — налившись кровью и побагровев, сказал Хашимбек.
— А очередь-то… Очередь брать воду сейчас за Ореховкой, — напомнил Балтабай. — А эти урусы… Ай-яй… Лихие… Они не уступят и самому волостному своей очереди.
— Ты ведь с ними умеешь ладить. И они, кажется, уважают тебя, — с усмешкой сказал мулла. — Свинину у них еще не пробовал?
— Свинину? Нет, свинину еще не пробовал, — не замечая ни издевки, ни слов, которые он произносил машинально, начиная думать о чем-то другом, ответил Балтабай. — Свинину не пробовал, — повторил он задумчиво. — Два дня назад вознамерился я полить свою бахчу — есть у меня три грядки бахчи, — пришел на туган просить воды, пустить в мою сторону ниточку не толще волоса… И не дали. Там, правда, этот самый Брутков был, он не дал. Другие-то, вижу, молчат, бери, мол, Балтабай, если ты хочешь свою бахчу полить. Ну, а этот, Брутков, оттолкнул меня и плетью замахнулся.
— Очередь у них уже кончилась, — сказал мираб. — Сейчас очередь нашего хозяина.
— А Ореховка об этом знает?
— О чем?
— Ну… вот, что очередь-то у нее кончилась.
— Знает или не знает, это не твоя забота, — сдвинув черные брови, сказал волостной. — Твое дело поливать. Знает, — добавил он твердо. — Знает. Поливай. И свою бахчу польешь…
— Ну так что… Вот это самое и есть… Если знает… Ваше слово закон… Я с легкой душой… с легкой душой пойду, — весело сказал Балтабай.
Успокоенный, все с тем же добрым, легким чувством, усердно поблагодарив хозяина за угощение, полюбовавшись еще раз на царственный карагач, на благоухающий цветник и спокойный водоем, Балтабай вместе с Карнмом и Турсуном вышел на пыльную, знойную, тихую улицу.
Четвертые сутки и ночью и днем Брутков заливал свои двенадцать десятин клевера. Наконец-то! Дождалась Ореховка очереди. Ну, а здесь Брутков всегда был первым. Никто не смел тронуть воду, пока Брутков, Стуликов, Лабинский не зальют свои клевера, огороды, сады, виноградники.
Лето, даже для здешних горячих мест, стояло на редкость жаркое. В середине апреля в последний раз прокатился по небу на своей чугунной колеснице Йлья-пророк, укатил за горизонт и больше не возвращался.
— Наверно, и ему припекает задницу-то, — шутили мужики. — Невтерпеж сидеть на своей чугунной телеге-то.
К концу лета в горах иссякли последние снега. Реки в долинах почти пересохли. Вода струилась в них тихая, голубая, сонная.
Сады, огороды, хлопчатник, рисовые поля изнывали от жажды.
Четверо суток Брутков не слезал с лошади. Надо было следить за поливом, за работниками, которые поливали клевер, за водой. Односельчане часто перехватывали воду друг у друга, стоило только зазеваться. Но еще не было случая, чтобы ее перехватили у Бруткова: все крепко побаивались его казачьего нрава. В дни полива Брутков всегда был настороже. Перехват воды особенно опасен для большого и дальнего поля в конце полива, потому что вода тогда снова должна пройти весь тот путь, который она прошла через все поле за несколько суток, чтобы залить в конце участка последнюю ненапоенную десятину. В таких случаях поливальщику бывает особенно досадно, будь то хозяин или даже поденщик, нанявшийся на эти дни поливальщиком.