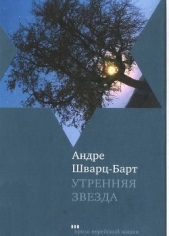Поклон старикам

Поклон старикам читать книгу онлайн
В книге собраны ранее издававшиеся повести «Где ты, моя утренняя звезда?» и «Устремленность», а также новая повесть «Дни дедушки Бизья», опубликованная в журнале «Байкал».
Героями повестей Сергея Цырендоржиева являются труженики села. Писатель хорошо знает их нелегкий труд. Описывая духовную стойкость, моральную чистоту своих героев, писатель утверждает свою веру в высокое назначение человека — нашего современника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Агван, склонив голову, вслушивается в ее слова, напрягается, чтобы понять.
Мария тихо смеется — уж очень смешны эти два маленьких человека.
Пагма шумно отхлебывает чай.
— Ничего, ничего… Дети моментом научат друг друга.
Как спокойно! Словно и снаряды не рвались вовсе, словно и не застывали навечно восковыми фигурами сидящие и стоящие люди в блокадном Ленинграде…
— Я не понимаю, Агван. Повтори. Я не понимаю…
Первые дни пролетели в горячке. Чистила кошару тяжелой деревянной лопатой, вывозила навоз в поле, ходила на озеро и обратно — за водой. Бесконечный снег… Она то и дело проваливается. На плечах коромысло с тяжелыми ведрами. Рядом едва ползет вол с санями, на санях — бочка. От озера до кошары, потом снова к озеру… по нескольку раз в день. Шестьсот овец напоить! Уж, кажется, протоптала тропку, а все равно оступается, вода выплескивается из ведер и застывает на твердом насте причудливыми цветами.
Сперва нравилось уставать до изнеможения — засыпать без мыслей и снов.
Только снег. Может, и впрямь прошлое отступило? Замерзшие трупы… Ленинградцы стоят, сидят, обхватывают, стоя на коленях, мертвую стену ледяного дома… Прошлое отступило.
Нет мыслей, нет воспоминаний, нет потерь. Чистый снег. Скачут, вокруг дети и шестьсот дышащих горячим парком овец. Она — кормилица. Ее богатство — душистое пряное летнее сено. Она — чабанка большого колхоза. Она сохранит овец. А значит, именно она накормит и защитников ее земли… и Степана, если он вдруг жив. Она всегда терялась, когда думала о Степане. Степан, ставший после детдома и мужем, и отцом, и матерью, не вернется — погиб. К этому простому, безусловному факту «погиб» она не может привыкнуть. Да, овцы. Прошлое отступило.
И этот день начался, как предыдущие. Расталкивая овец, тащит им сено, которое подает Дулма с высокого зарода. Овцы хватают сено не дожидаясь, пока оно беззвучно упадет в кормушки. Сено, трава, лето, мир — забытые понятия…
Искоса следит она за движениями Дулмы: та легко сунула вилы в зарод, плотная копнушка сразу полетела точно к ягнятам. Здорово!
— Теперь ты попробуй! А я навоз сгребу.
Мария ухватила вилы точно так же, как Дулма, поддела сено, но вилы выскочили пустыми. Слава богу, Дулма ушла, не видела. Почему не получилось? Ведь она делает так же, как Дулма. Еще раз… еще… И снова вилы пусты, лишь серый клочок повис с зуба… Еще раз… Вилы воткнулись в зарод, а сено будто закаменело. И руки закаменели. В эту минуту поняла, как устала. Оперлась о вилы, огляделась. Овны жуют сено, и морды их равнодушны, бессмысленны… Только одна смотрит на нее хитрым глазом и бьет копытцем по земле — раз, раз, раз… Словно коза из сказки. «Один раз копытом ударит — озеро появится, два ударит — лес встанет». Мария усмехнулась: нет волшебных коз, не появится здесь ее Ленинград.
После детдома получила специальность — могла преподавать в младших классах. Начать сначала: тетрадки, уроки, ребячьи ответы. Радости не было никакой. Не ее это. В детдоме ночами пели батареи, пели черные ветки деревьев, готовые весной выстрелить тугими зелеными листьями, пели тропы, поросшие травой, по которым бегала из корпуса в корпус… Иной раз, гуляя по городу, останавливалась под поющим окном и слушала. Бегущие звуки мелодии легко укладывались в нее. И сейчас вот может все их повторить.
Бьет коза копытцем по земляному полу, бьет, возвращает в прошлое. Взяла да разом жизнь свою и переломила тогда. Днем работала, вечером музыке училась, легко училась, весело. Быстро мелькнуло два года. Ей разрешили преподавать музыку! Поселилась у Варвары Тимофеевны — своей учительницы… Тогда легко было начать жизнь сначала.
Онемевшими руками попробовала еще раз поддеть сено, — нет, не получается у нее ничего.
— Ты что, Маруся? — возле нее Дулма. — Ты сперва поколоти вилами сено. Вот так. Найди рыхлое место. Руки сами почувствуют, где можно снять. Пластами бери. Здесь и сила-то не нужна, все дело в сноровке. — Дулма говорила, а брови ее летели к вискам, и белозубая улыбка делала ее девчонкой.
Мария в ответ засмеялась, смелей взмахнула вилами. Получилось! Понесла свою первую копнушку.
— Нате, ненасытные, нате!
Тычутся ей в ноги ягнята, блеют овцы, пар от их дыхания поднимается.
Закружилась голова от запаха сена, от спокойных и верных движений. Чем не работа? Тоже ритм, тоже радость. Чабанка! Старой Пагме не разрешит теперь в кошару ходить, себе и Вике хлеб сама заработает. Увидел бы сейчас ее Степан — в этих тяжелых овчинных унтах, дэгэле, островерхой шапке, увидел бы ее ладони с красными волдырями. Усмехнулась Мария и вдруг осела. Очнулась в объятиях Дулмы.
— Погиб Степа. Как жить буду? — простонала она.
В ответ заржал конь.
— Он… Он… погиб… как же так?.. Недавно по комнате меня носил, как ребенка, — не в силах удержать в себе прошлое, тихо говорила: — Мы детдомовские, в тридцать девятом поженились, в сороковом у нас Вика родилась. Потом — сорок первый… — Она замолчала.
Степан любил слушать ее игру: пристроится на диване, зажмурится. Только она закончит одну пьесу, просит: «Еще», — и смотрит на нее.
— Ты не думай, старайся не думать. — Дулма сидит рядом, обхватив колени руками. — А то жить нельзя.
Лицо Дулмы мягко клонилось к ней. И столько было страдания в нем, усталости, что Мария невольно подумала: а как же Дулма и остальные всю жизнь всегда живут здесь? Она устала, а Дулма? Есть ли война, нет ли — труд остается, когда ни вздохнуть, ни охнуть нельзя — от восхода до заката на ногах. Первый раз вот увидела оживленную Дулму. А Пагма за ночь ей и Вике рукавицы из шкуры ягненка сшила. Мария пошевелила пальцами, не мерзнут теперь!
— Тебе неинтересно, наверно, про чужую жизнь слушать? — спросила она.
Дулма стерла с ее щек замерзшие слезы:
— Когда не плачешь, интересно, — и неловко погладила ее плечо.
— Жила я у своей учительницы по музыке Варвары Тимофеевны. Она одна. И я одна. Два года мы так жили. Тут Степа военное училище окончил, и я собралась замуж. Она уговаривала Степу у нее поселиться. Сама на кухню перебралась, нам комнату уступила. — Мария удержалась, чтобы не всхлипнуть, и повторила: — А сама на кухню перебралась, — будто только что до нее дошел смысл происшедшего тогда. — Маленькая она была. Котлеты необыкновенные делала. Положит нам в тарелки, подопрет щеку и смотрит, как мы уплетаем.
Небо серо стояло над ними и возле них — неподвижное, плотное.
— Понимаешь, какой человек она была?! Степа мой — военный инженер, мосты строил. Пойдем гулять, а он мне про каждый мост лекцию читает. Да я плохо слушала. Неинтересно мне это было. А вот голос помню. — Мария опять замолчала, не понимая, что с ней. Вроде все всегда про себя знала, а теперь совсем по-другому увидела и себя, и людей, с которыми ее связывала судьба.
В широкоскулом, с пристальным взглядом лице Дулмы виделось Марии любопытство и участие, и они-то помогали ей осознать прошлое по-другому и мешали додумать его до конца. Она волновалась и упрямо продолжала:
— Он военный. Мы редко виделись. В августе сорок первого неожиданно ворвался в дом. И меня, и Вику на руках закружил, потом с нами на диван плюхнулся, сжал так, что Вика заплакала. А он повторяет и повторяет: «Родные мои, любимые. Родные мои, любимые»… Поняла я — прощается.
Мария сжала в пальцах клок сена, растерла, стала нюхать. Новое ощущение пережитого оформлялось в четкое неуютное, непонятное для нее убеждение — она виновата! Виновата в том, что не понимала Степу, быть может, виновата и в том, что он погиб. Словно почувствовав это, осторожно отодвинулась от нее Дулма. Еще не веря себе, Мария тихо добавила:
— Я, конечно, в плач: «А мы как же?» — говорю, — и замолчала. Вот оно: «Мы… я… я…» А он? Как ему было? Что с ним? Как он?
Искоса взглянула на Дулму. Нет, Дулма не судит ее, она с ней, за нее страдает: плотно сжаты губы, руками себя за плечи обхватила. Дулма умеет, она — нет.
— А он запретил мне плакать. «Ты жена офицера!»— Села, зябко поежилась, прижалась к Дулме. Как он? Как ему было?