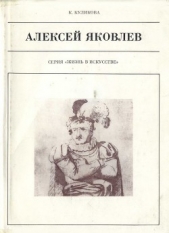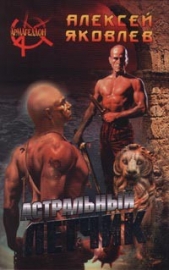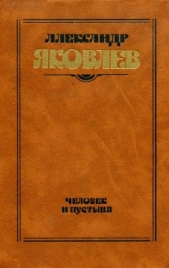Человек и пустыня (Роман. Рассказы)
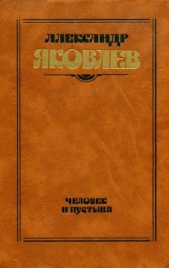
Человек и пустыня (Роман. Рассказы) читать книгу онлайн
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странник вдруг засучивает рукав, и все видят: у локтя, на исхудалой руке, черное пятно вроде лодочки.
— От огня адова. Обожгло. И вот семь годов уж, а не проходит!..
Сгрудились все к столу, глядят на пятно, а странник поет:
— Но это пятно небольшое. А большое пятно на спине у меня. Вся спина, можно сказать, сожжена. Отседова и доседова.
Странник тронул себя по шее и потом под коленкой.
— Показать же пятна сии не смею.
Мама смотрит не мигаючи.
— Как же ты попал в ад?
— В непотребной пьяной жизни моей событие оное произошло.
Голос у странника громче — говорит-разливается. И все ахают и вздыхают. Позади — за спиной за Витькиной — плачут.
— Кэ-эк схватили они меня, а пальцы-то у них на манер крючков…
Хлюпают кругом, когда кончил странник, а мама шепчет Фимке:
— Принеси-ка бисерный кошелек мне, там, на столе в спальной.
И разом все стали новые, отпрянули от стола, но не очень чтоб далеко. И умильные улыбки у всех. Открыла мама кошелек и протянула большую белую монету страннику. Тот забормотал, закланялся. И все забормотали, закланялись. Рук многое множество к маме протянулось. А мама — кому гривенник, кому двугривенный — пошла, раздает монетки. И за ужином папе:
— Прямо из ада человек вернулся. Вот на кухне сидит.
Папа громоносно хохочет:
— Вот мошенник! Это вот мошенник!
Мама и бабушка в обиду:
— Тебе все мошенники. Перекрестись! Человек и обжоги показывал.
— А-а, ха-ха-ха!
И вдруг сразу серьезно-пресерьезно:
— Гнать бы метлой всех. Поганой бы метлой!
Мама и бабушка в ужасе:
— Божьих-то людей?
И почнут, и почнут спорить. Папа махнет рукой, нахмурится:
— Ну, говорить с вами!..
А через неделю человек из ада пришел на двор пьяный, в опорках, закричал, запел:
— Э-э-э, пляши, нога! Святители-тители, тители-святители, выпить не хотите ли?
Он топнул и прошелся дробно худыми опорками по камням двора.
— Э-эх, гуля! Святители-тители…
Налезло из кухни много, смотрят испуганно. У отворенных ворот — мальчишки, смеются, кривляются. Папа увидал, гаркнул громом:
— Во-он! Храпон! Гони его в шею!
Человек из ада все плясал. Подбежал Храпон к нему, схватил за руку, потащил к калитке. Тот одно свое:
— Святители-тители, выпить не хотите ли?
И плечами этак с вывертом: весь дрожит, изгибается. Тут папин праздник пришел.
— Вот и все ваши странники такие, — сказал он маме и бабушке, — гнать в шею надо.
— Ну, все! Скажешь — слушать нечего!
— Знамо, все. Дождутся они у меня!
Не любит папа божьих людей. Смеется. Недавно увидал папа, пришла во двор дурочка Манефа, в лохмотьях вся, крикнул:
— Манефа, это ты?
— Я, батюшка, я!
— Пришла?
— Пришла, батюшка, пришла!
— А ну попляши!
Заревела Манефа в голос, заплакала, затопала грязными босыми ногами: лохмотья взъерошились на ней. Папа ушел, посмеиваясь. А Манефа пляшет, пляшет и пляшет. Витька выбежал на крыльцо, заюжал в смехе. Из кучерской пришли Храпон и Петр, и Петрова жена выглянула, из кухни народ полез, а Манефа пляшет во всю прыть, и уж пот с нее льет. В доме забегали. Поспешно вышла мама на крыльцо, лицо испуганное:
— Манефа, перестань!
А Манефа еще пуще перебирать ногами зачала, у самой пот и слезы по лицу бегут.
— Хозяин велел.
— Перестань, тебе говорю! — крикнула мама.
— Хозяин велел.
Тут к крыльцу поналезли странницы.
— Не смеет ослушаться, матушка Ксения Григорьевна! Надо, чтобы кто повыше тебя приказал.
Пришла бабушка на крыльцо и тоже:
— Манефа, будет!
Манефа как вкопанная.
А мама и бабушка — две вместе — на папу:
— Да ты это что озоруешь? А? Бесстыжие твои глаза! Над убогим человеком измываешься? Мальчишки так на улице забавляются, а ты услыхал — перенял?
И пошли, и пошли. Папа грохочет только. Ну и Витька тоже, этак через недельку увидал Манефу на дворе, крикнул:
— Манефа, попляши!
Заревела Манефа, заплясала.
Опять прибежал народ, мама на крыльцо выплыла.
— Перестань, Манефа!
Манефа перестала. Дозналась мама, что Витька Манефе приказал, Витьку за ухо:
— Не озоруй, не озоруй, негодный мальчишка!
Витька думал: папа заступится. А папа хмуро так и нехотя:
— Ну, будет, мать! Да перестань же!
И отнял Витьку.
— Не плачь, сынок! Не связывайся с ними. Видишь, меня ругают и тебя обижают. Это я плохо тогда сделал, пошутил с Манефой. Ты так не делай!
И уведет Витьку, уведет в залу, где на потолке птички ласточки, а по карнизу — золотые облупившиеся цацы.
— Ну, не плачь же, тебе говорю! Вон, погляди, вон птички какие!..
Затуманенными глазами Витька смотрит на потолок. Птичка?..
— Это кто сделал?
— Барин сделал.
— Какой?
— Барин, чей дом был. Разве ты не знаешь?
И Витька вспомнит разом: дедушка — он все знает — часто рассказывал про дом про этот и про сад, что внизу, под балконом, и про тот сад, где теперь дед живет:
— Барин был гордющий такой. Все на крепостных мужиках ехал.
Витька представлял: сядет барин верхом на мужика, вот как он сам, Витька, садится на Фимку, ножки свесит — и айда, пошел!
— Крепостные ему и дом этот строили, и сад разводили. Ну, отменил царь крепость, — барин не одумался, все аллейками, беседочками занимался. А мы его — к ногтю. К ногтю!
И, бывало, засмеется дедушка радостно.
— Этак приезжает кучер ко мне, — мы тогда на Моховой жили, где теперь магазин Андреева. «Так и так, барин зовет вас по делу». По делу? Что ж, по делу сходить можно. Прихожу. Малый в передней меня встречает, в белых перчатках, в кафтане красном. Этак гордо: «Что надо?» — «Доложи-ка барину, звал меня зачем-то. Андронов я». Ушел человек. Минуты не прошло, зовет барин в кабинет. «А-а, любезнейший, здравствуй!» — «Здравствуйте, ваше превосходительство!» — «Позвал я тебя по делу. Я слыхал, ты деньги даешь в долг». — «Даю, коли случаются». — «Дай мне под этот дом и под этот сад двадцать тысяч». — «Что вы, говорю, ваше превосходительство? У нас таких денег и в заводе не было». Ну, поговорили, вижу: дать можно. А признаться, давно мне этот дом люб был. Что же, видать сразу: не ноне-завтра барин в трубу вылетит: пимоны-гулимоны до дела не доведут. Ну, сговорились, дал ему восемь тысяч. И то был рад-радехонек. Потом еще пять. Подходит время платежа, у барина шиш в кармане. «Отсрочь». — «Извольте». Еще срок. А тут гляжу: другие наседают. Вот-вот барин банкрутом станет. Зовет раз: «Покупай дом совсем — и дом, и сад. В Петербург хочу ехать, на службу». Считали, считали. Доплатил я шесть тысяч, сделали купчую, через месяц барин уехал. Ну что ж? Освятили дом, — вот уже двадцать лет живем, бога благодарим. Барин все на крепостных ехал, — гляди, какая обширность везде. Ну и доехал! Патрет даже оставил на память. Видали в зале-то? Это он самый и есть. Потом, слыхать было, захирел вовсе, голоштанником стал. А мы теперь попросте здесь живем, без крепостных.
И опять дедушка засмеется.
Сам не знает почему, а рад Витька, как дедушка барина победил. У, барин, барин, а штанов-то нет! Вот висит на стене — можно ему язык показать…
— Вставай, вставай, учитель скоро придет, а ты вылеживаешься, бесстыдник!
Витька поглубже в подушки, в перину, подальше под одеяло — и холодом повеяло на Витькины ноги, за шиворот.
— Вставай!
И за руку. И за плечи. И целует в шею. Ух, эта бабушка! Ворчит и целует.
Фимка уже мелькает везде. И тоже, будто бабушка, ворчит, смеется.
— Невесты в училищу поехали, а жених еще храпит.
— Я не храплю, — сердито говорит Витька.
— Ночью-то, верно, не храпишь, а утром обязательно храпишь.
— Врешь ты!
Витька поднимается, сердито смотрит на Фимку. У Фимки лицо розовое, большое, веселое, как солнышко, и зубы белые блестят, словно кусочки сахару, щипчиками нащипанные. Витька одевается, будто недовольный, а бабушка улыбается, Фимка улыбается, солнышко улыбается, — сам не смеялся бы, да нельзя.