У памяти свои законы
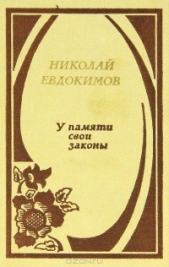
У памяти свои законы читать книгу онлайн
Новый роман Николая Евдокимова — правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом.
Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.
Занимательность сюжета, жизненная достоверность, своеобразная композиция этого произведения несомненно увлекут читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как-то от дневной беготни разболелась у меня голова. Я вышел на кухню смочить платок. В «гостевой» богатырски храпели гости, мешки в передней пахли яблоками. На кухне сидел мрачный генерал.
— Сядь, — сказал он.
Садиться было не на что, и я прислонился к посудному шкафу.
— Слушай, что ты думаешь обо мне? — спросил он. — Без сиропа. Правду.
Что я думал о нем? Плохого я не думал о нем. И не мог думать. Поначалу мне казалось, что он из тех, о ком в книгах пишут, что они, как говорится, прикрывают мягкое свое сердце внешней суровостью и эдаким чудачеством. Но скоро понял, что это не так. Нет, он крут, резок, властен. И возражений не терпит, с ним нелегко домашним, а уж подчиненным, очевидно, и подавно. Но он справедлив, а справедливый не может быть плохим человеком.
Я постарался деликатно высказать ему это.
— Не то, — устало сказал он. — Терплю возражения. Дельные. Да черт с ними, дельными, хоть какие. Тоскую по возражениям. Власть — страшная штука. Себя пупом вселенским вообразить можно. Рот раскрыл — подхалимы тут как тут. Звон стоит от их трескотни. Одни трещат, другие, поумнее, молчат. Боятся. А шапку-то не передо мной снимать надо. Перед ним, вон он храпит, русский мужик. Хозяин земли. Руки — не моим чета. Посмотрел бы да поклонился, а ты — мимо. А он бог. Бог Саваоф. Не мужик. Все мы перед ним в долгу.
Странное дело, но в ту ночь показалось мне, что он одинок, большой, монументальный этот человек.
Когда гостей не было, генерал играл с женой в шахматы. Шахматные эти бои затягивались порою до утра: генерал не любил проигрывать, а проигрывать ему приходилось часто. Он буйствовал, проиграв. Он кричал на всю квартиру, он обвинял жену в жульничестве, требовал возвратить ход. Порою шахматные запои продолжались несколько ночей подряд, и это было чистым адом. Все вверх дном тогда было в квартире. Уж на что я любитель преферанса, но таких баталий не видел даже у картежников.
А однажды случилось страшное. В первый день нового — пятидесятого, рокового для этой семьи — года мне позвонила Лена: умерла ее мать. Ее сбила машина возле дома. Мучилась она недолго, умерла через несколько часов, не приходя в сознание.
Генерал изменился. Он не то чтобы постарел, но обрюзг. Прежде был бравый, подтянутый, хоть и не без брюшка, однако прятал куда-то это брюхо. А теперь раскис, расплылся. Со мной разговаривал только о пустяках, о ненужных каких-то вещах, но иногда его прорывало, и он рассказывал о жене. О том, как познакомился с нею в гражданскую — она у него в бригаде пулеметчицей была, — как приезжала к нему на фронт в сорок втором. Грустные это были рассказы.
Как-то я прилетел в Москву, чтобы протолкнуть пустяковое одно дело. Дело-то пустяковое, а энергии надо был приложить немало, чтобы обегать все инстанции. Много у нас тогда было инстанций, и ни одну не минуешь. От нее, может, толку никакого и не зависит ничего, а все равно нужна резолюция. Без резолюции дальше не примут.
Как всегда, Лена встретила меня. Она была грустна и молчалива. Мы доехали до Калужской площади, отпустили такси, пошли пешком. По Садовой шли, по улице Горького и вышли на Пушкинскую площадь.
Было уже темно, моросил дождь. Поперек площади от Тверского бульвара на противоположную ее сторону, к скверу, тянулся высокий дощатый забор. Троллейбусы не ходили. Легковые машины объезжали площадь вокруг. У дома Лены и напротив, возле кинотеатра «Центральный», стояли люди. Стояли молча и тихо. Кто с зонтиком, кто просто так. Фонари горели неярко, сухим каким-то светом. Тверской бульвар был почти не виден в сумеречной изморози. Там, у начала бульвара, где всегда стоял памятник Пушкину, ничего не было: пустота. Из-за белеющего во тьме забора торчали лишь черные, будто обугленные старинные фонари, окружавшие некогда памятник. А памятника там не было. Памятник стоял далеко от них, посреди площади, за забором, закрывшим почти весь постамент.
Тарахтел мотор, вспыхнул прожектор. Однако свету он не прибавил, этот прожектор, может быть, только резче стал силуэт поэта. Черный, печальный Пушкин стоял высоко над площадью на фоне черного неба, опустив голову. Нет, он не стоял. Он двигался медленно и устало. Дождь сыпал на его обнаженную голову, а он двигался, смотря из своего далека на людей, застывших вокруг него.
Они молчали, подняв мокрые лица. Где-то шумела Москва, крутилась, торопилась, смеялась или плакала, а здесь было тихо и страшно. Пушкин шел, обнажив голову, не замечая ни дождя, ни темноты. Он был задумчив и печален. За темными тучами прошумел над ним далекий самолет, но он не услышал его, не поднял головы. Дождь сыпал на него мелкую свою крупу. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
Люди стояли молча, подняв мокрые лица.
Лена заплакала.
— Господи, как мне грустно, — сказала она. — Не могу. Тоска какая-то у меня последнее время. Зачем его передвигают? Мне жалко его. И себя жалко. И отца. Если бы ты знал, как он плох.
Но мне не показалось, чтобы генерал был так плох. Во всяком случае, не хуже, чем я видел его несколько месяцев назад. Он даже веселее стал, разговорчивее.
Я рассказал ему, что приехал протолкнуть пустяковое дело через многие инстанции.
— Ничего, молод, побегай. Футболить для бюрократа — милое дело. Любимый спорт. Они метко голы забивают. Живучее племя, — сказал он и захохотал. — Послушай, случай был. В году двадцать третьем, а может, чуть раньше, не помню. В общем, гражданская уже кончилась. Я вроде без дела сидел: округом командовал, книжки почитывал, готовился учиться. Какое это дело? Беляков рубить — дело было. А к сидению в кресле я тогда не привык еще. Но речь о другом. Приволокли как-то ко мне бойцы человека. «Кто ты?» — спрашиваю. «Бюрократ». — «Кто?» — «Бюрократ», — не говорит, булькает со страха. «Должность, что ли, такая объявилась?» — «Нет, говорит, вот они приказали, чтоб так вам назвался. А я, говорит, не виноват ни в чем». Бойцы мои орут: «Врет, подлюга! Сидит в Совете, в зубах ковыряет. Надо на бумаги отвечать, а он — в зубах: завтра зайдите. Бабы ездют, ездют, не наездются — все завтра. А у них прошения: их мужики за советскую власть полегли. Расстрелять его надо!» Шум несусветный: стреляй бюрократа, и точка. Но я не расстрелял. Попугал только. Собрал сходку возле Совета и речь закатил. Объяснил, что царизм держался на бюрократах, а теперь их у нас не будет. Всех бюрократов мы постреляли, уничтожили как класс, а этого оставим для музея, поскольку он обещал исправиться. И оставил. До сих пор жалею. Верь не верь, а стукнет, бывало, мысль: для развода оставил, это он наплодил волокитчиков. Знаешь, я пацаненком был, мать однажды поймала в избе таракана. Тараканы у нас не водились, ни-ни, по всей деревне ищи — не найдешь. А этот притопал откуда-то, сел на печи, ушами шевелит. Его бы раздавить, а мать пожалела. Васькой назвала и жить оставила. «Я, говорит, с ним беседую, когда у печи толкусь». А скоро Васька Манькой оказался, таракашечек родил. И ахнуть мы не успели, тараканье племя всю деревню оккупировало… Прости, не по себе что-то, лягу, а?
Он лег, уснул.
В эту ночь он умер. Смерть его была легкой, умер он во сне.
Он давно мертв, а я жив. Не смешно ли: меня, как твоего бюрократа, выставили всем на обозрение. Что бы сказал ты об этом, генерал? Я и он, мы одного поля ягодки? Вот какие бывают парадоксы…
Когда я подъезжал к дому, брызнул дождь. Веселый, звонкий, озорной, как ребенок: ведь дожди тоже бывают, как люди. Угрюмые, ворчливые, словно старики, и скандальные, визгливые, будто злые жены, и кокетливые, как девушки. А этот дождь был ясный, шаловливый, белоголовый, точно моя Варька. Маленькая Варька. Он топал по улице, оставляя пузырчатые следы, стучал по деревьям и пел любимую Варькину песню: «Пусть всегда будет солнце».
И солнце было. Оно слепило меня, оно сверкало в каждой капле на ветровом стекле. И мне удивительно как хорошо стало и захотелось, будто в детстве, засучить штаны и помчаться босиком по лужам и дождевым рекам. Но не побежишь же…


























