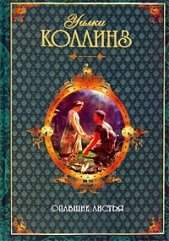Атланты и кариатиды (Сборник)

Атланты и кариатиды (Сборник) читать книгу онлайн
Иван Шамякин — один из наиболее читаемых белорусских писателей, и не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно исчезающее из книжных магазинов, — практическое подтверждение этой, уже установившейся популярности. Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, близкое и необходимое не отдельным личностям, или определенным общественным слоям: рабочим, интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, это «что-то» и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это «нечто» художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и вечно молодое, неповторимое.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Максим встрепенулся, будто увидел выход из мучительного положения. Да, похоронить сегодня. Скорее. Теперь уже матери ничего не нужно. Все это условности.
Но Рая сказала, что надо подождать Колю. Максим совсем забыл о старшем племяннике. Однако Коля так и не приехал. В какой-то момент, пока ожидали, Максим разозлился на него: щенок, что ему до бабушки, которая вырастила его? Но тут же подумал, что Вета такая же внучка, а он ей даже телеграммы не дал, потому что знал, не приедет. Слабеют и рвутся нити, которые связывали род. В наше время внуки не ездят на похороны дедов и бабушек. От этих мыслей стало еще более грустно и больно. И как-то пусто на душе.
XXII
Нет, это не душевная депрессия. Не то, что было, когда он шел за гробом и на бестолковых поминках, на которых «певчие» действительно напились. Тогда он испугался своего состояния и, обидев Раю и Петра, в тот же вечер уехал домой. Странно, где его дом? Здесь, в Волчьем Логе?
В дороге он простудился. Душил кашель. Болела грудь. Поэтому не ездил на работу. Пил липовый чай. Варил картошку. Сперва, укрывшись полотенцем, вдыхал над кастрюлей пар, потом ел сам и кормил изголодавшегося Барона. И мучился бессонницей.
Боль утраты не утихла, не притупилась, она как бы приобрела новое качество: все время думалось о матери, образ ее стоял перед глазами, и голос слышался в глубокой тишине дачи, где в безветренную ночь не раздастся ни один звук.
Лежал, слушал тишину и вспоминал каждый эпизод далекого детства, голодной военной юности и недавних встреч с матерью, каждое ее слово, каждый жест и каждую морщинку на лице, на руках. На живом лице, на живых руках. Мертвую не вспоминал.
На третью, должно быть, ночь понял, что образ матери не может оставаться только в памяти. Мать должна продолжить свою жизнь в его творчестве. Поэт, верно, создал бы стихотворение или поэму. Живописец написал бы родное лицо на полотне. А как воплотить образ человека в архитектуре? Великие зодчие это умели, в их творениях оставались жить на века они сами и образы близких, их дух, их идеалы. Он этого не умеет. Пока не умеет. Всегда старался выразить свою эпоху. Такая сверхзадача стоит перед каждым зодчим. Но, по сути, это абстракция, нечто необъятное. Тысячи архитекторов, проектировщиков, инженеров — все вместе, может быть, они и могут отразить эпоху. Один... один может разве что гений. Высочайшее достижение художника — образ человека определенной эпохи. Но в синтетическом искусстве зодчества человек не выступает так, как в романе, фильме, скульптуре. Не духовный облик, а материальные потребности диктуют функциональную целесообразность зданий, районов, городов. На этом принципе держится вся современная архитектура. Гостиницы, небоскребы строят во всем мире не для того, чтоб человек мог зайти туда подумать в одиночестве, вознестись духом.
Максим завидовал писателям, художникам. Но и у него есть еще одно умение, которое он называет своим хобби. Он увлекался резьбой в детстве, когда пас коров. Даже на вереях ворот своего двора вырезал искусные узоры, так что каждый останавливался полюбоваться. И он, малыш, гордился этим. Вереи эти в войну сгорели. В институте он пробовал усовершенствоваться в этом искусстве, ходил в мастерскую известного скульптора, и тот убеждал Максима, что его призвание — скульптура, но не переубедил, архитектура держала крепче, он остался верен избранной профессии.
После долгого перерыва он вернулся к своему увлечению, когда строил дачу. И потом, когда жил здесь, отдыхал; лучший отдых — резьба. Тогда же привез из лесничества толстые липовые и березовые кругляки — заготовки. Гости удивлялись этим круглякам, спрашивали, зачем ему. «Выйду на пенсию, займусь резьбой». До пенсионного возраста оставалось всего... тринадцать лет. Игнатович как-то сказал: «Струхлявеют твои кругляки до пенсии». Но тот же Игнатович привез ему в подарок из заграничной командировки набор замечательных резцов, таких у нас не делают; один — для грубой обработки — даже электрический.
...Василий был призван в армию в сороковом году, когда Максим учился в девятом классе. В начале войны в армию ушел отец, бригадир колхозных строителей, член партии, отступил с последней воинской частью, которая недели две держала рубеж в их районе. В оккупации мать не ожидала отца, хотя, когда появились в окрестных лесах партизаны, Максим как раз считал более вероятным, что отец мог остаться в этих знакомых ему лесах. Говорил об этом матери. Но для нее Евтихий был на войне, и она стала ждать его лишь тогда, когда на востоке снова загремела канонада. Совсем иначе она ждала сына. Всю войну. Может быть, с того самого дня, как в село вернулся первый окруженец. Ждала напряженно, чутко. Вскакивала ночью на каждый шорох, на шаги за окном.
Пришло освобождение, отец написал из госпиталя.
От Василия не было никаких вестей.
Призвали в армию Максима. Немного раньше, недели за две, забрали старших, всех, кто должен был взять оружие в сорок первом. Многие из них полегли здесь, недалеко, на переправе через Сож. Некоторых хоронили дома. В сожженной деревне, где торчали одни трубы, все было видно из края в край, все слышно — плач, стенания. Да мать и сама не пропускала ни одних похорон. В беде все село жило одной семьей.
Он боялся, что мать будет очень горевать, провожая его в армию, будет голосить, как по покойнику. А это страшно, он слышал, как голосили, провожая, некоторые бабы. Мать не плакала. Ни одной слезинки. И не провожала далеко. Только вывела из бывшего двора за обгорелые вереи. Но как она глядела. Перекрестила и сказала: «Иди, сынок. Теперь я двоих вас буду ждать. Василия и тебя».
В первые послевоенные годы в каждый его приезд домой мать, тайком, чтобы не слышали другие, робко спрашивала: «Максимка, а может, живет где наш Василек? Может, в плену держат? А может, оженился где на такой, что к своим не пускает? Бывают же такие женки».
Бывают, мама, бывают. Все бывает. Да с Василием этого не могло быть. Но зачем разрушать твою материнскую веру? Он проглатывал соленый комок и молчал.
Рая рассказывала на поминках, лет двадцать мать заказывала молитвы во здравие Василия. Лишь недавно, лет восемь назад, составляя для соседки, которая ехала в далекую церковь, списочек, за кого помолиться, впервые имя Василия поставила рядом с отцом, которого сама хоронила и за которого уже в день похорон молилась: «Прими, господи, душу раба твоего, воина Евтихия».
...Липа за несколько лет высохла так, что казалась крепче, чем те дубовые вереи, на которых он вырезал узоры. Или, может, слабее стали руки? Они в самом деле утром дрожали, но это от волнения, от нетерпеливой жажды поскорее взяться за работу — необычную, святую.
Стамеской не пользовался для первичной обработки, только резцами. Чтоб не испортить замечательный материал. Осторожно и медленно, как кладоискатель, разыскивающий драгоценное сокровище, пробирался сквозь толщу пока еще мертвого дерева к живым чертам родного лица. До них еще далеко, много дней, недель, а может быть, и месяцев труда, но уже теперь не должно быть ни одной неправильной линии, ни одного ненужного желобка, оставленного холодным резцом. Металл холоден, да. А дерево теплое. Нет, не мертвое оно, живое, оно оживает от каждого его движения, будто он вдыхает в него свою душу, свою боль и радость. Давно уже, пожалуй, не было такой радости, как от этой работы. Радовало все. Ощущение, что он словно оправился от недолгой, но тяжелой болезни, что творчество, новое, непривычное, то, по которому порой тосковал, так захватило.
Радовал день. Он тоже был необычный, торжественный. После недели непогоды, когда зима встречалась с весной, первый по-настоящему весенний день. На небе ни облачка. Сияло солнце огромное на небосводе. И сверкали мириады маленьких солнц на снегу. И все это широкое море снежного света залило мансарду. Ах, такое бы освещение тогда, когда начнется самая тонкая работа, когда надо видеть каждое волоконце на дереве, каждую линию резца и каждую черточку образа, каждую морщинку на лице! Ничего, света тут всегда хватает. Не будет снежного, будет зеленый от берез, которые теперь сияют белизной ствола и розовым румянцем тонких веточек и почек.