Дом учителя
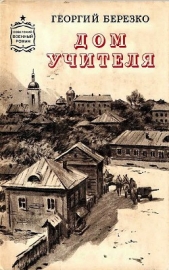
Дом учителя читать книгу онлайн
Мирно и спокойно текла жизнь сестер Синельниковых, гостеприимных и приветливых хозяек районного Дома учителя, расположенного на окраине небольшого городка где-то на границе Московской и Смоленской областей. Но вот грянула война, подошла осень 1941 года. Враг рвется к столице нашей Родины — Москве, и городок становится местом ожесточенных осенне-зимних боев 1941–1942 годов.
Герои книги — солдаты и командиры Красной Армии, учителя и школьники, партизаны — люди разных возрастов и профессий, сплотившиеся в едином патриотическом порыве. Большое место в романе занимает тема братства трудящихся разных стран в борьбе за будущее человечества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей Алексеевич подумал, что следовало бы потолковать с Леонтьевым… Это была личность довольно известная в районе: старый вояка, конник Буденного, вернувшийся с гражданской войны с именным боевым оружием, Леонтьев вскорости ухитрился восстановить против себя и соседей, и сельское начальство. Был он строптив, неуживчив, настроен всегда максималистски и твердо знал, что во всех случаях прямая линия есть кратчайшая. Феи, стоявшие у его колыбели — лубяной «колыски», подвешенной к мохнатому от копоти потолку, в слепой о два окошечка избе, где он появился на свет, — одарили его трудным подарком — духом вечного неудовольствия и критики. За активное несогласие с новой экономической политикой Леонтьева исключили из партии, а было ему к тому времени под сорок. Дальше конюха в родном колхозе он уже не пошел. Но и правленцы в колхозе, и сельсоветовское начальство побаивались этого колхозного Марата, начитанного непримиримого оратора-обличителя на всех собраниях…
В партизанский отряд Леонтьев тем не менее пришел одним из первых со своим наградным оружием: именной шашкой.
«Задумываются люди, — послушав его, сказал себе Сергей Алексеевич. — И надо ли бояться того, что задумываются? Слишком все серьезно… Но может быть, и не время сейчас судить нас за наши ошибки? Да и надо еще разобраться, где ошибка, в чем?.. Вот чертов агитатор!..»
Усталость брала верх… Самосуд кое-как пригрелся под своим брезентовым колпаком, и дремота одолевала его. А Леонтьев все не унимался, посылая куда-то в шумящее пространство свои укоризны, не заботясь, слушают его или нет.
— Раненого летчика тут везли. Рассказывал, что немец в первый же день много наших самолетов пожег. На земле пожег, взлететь не дал. Мыслимое ли это дело?! Как же допустили такое?! Ну, ну, вывози, горемычная, скоро дома будем…
Однако в полк добрались не так скоро. Лошадь споткнулась на размытой дороге и захромала; хорошо еще, что это случилось на въезде в деревеньку, где у Леонтьева нашлись добрые знакомые… Он пошел раздобывать другого коня, а Сергей Алексеевич постучался в крайнюю на околице избу.
Там еще не спали, и уже в сенях его опахнул теплый, отдававший тмином запах свежей печеной корочки — запах хлеба… И не слишком обычная, надо сказать, картина предстала его глазам в мягком полумраке в чистой половине избы. Здесь молились — на коленях на полу стояла большая семья: древний дед, старуха, вся в черном, две женщины помоложе, одна совсем молоденькая, две босые девочки… Самосуд не очень даже помешал им своим приходом: на него обернулись, молча покивали, но никто не встал с колен. Только беленький, стриженный по-городскому, «под бокс», паренек лет шестнадцати, впустивший Сергея Алексеевича, был заметно раздосадован.
— Не обращайте внимания, пускай себе… — буркнул он в сенях Самосуду, — скоро уже кончат. — И добавил: — А я вас знаю, вы директор из Спасского. Мы к вам на Май приезжали, на состязания.
Сергей Алексеевич долго вытирал ноги о мешковину, брошенную перед порогом, и остался стоять у дверей с шапкой в руке.
В просторной бревенчатой комнате было жарко натоплено, опрятно и домовито. Окутанная тенью, белела каменно-угловатая, подобная крепостному бастиону, печь. На столе, на расстеленном полотенце, остывали только что вынутые круглые, коричнево-лаковые буханки. А над столом весь передний угол был заставлен иконами в мерцающих окладах, и по-елочному разноцветно горели там в изумрудных и красных чашечках лампадок крохотные огоньки.
Самосуд, как ни был утомлен, прислушался к негромкой, одиноко раздававшейся речи — не то к молитве, не то к волхованию. Неспешно и распевно, будто не с просьбой, а с наставлением, с наказом звучал этот старушечий, чуть пришепетывающий голос:
— …А в тех темны-их лесах, в дремучи-их народила тебя мать родная. А и рожая, она приговаривала: «Будь ты, мое дитятко, цел-невредим: от дурного глаза, от всех хворостей, от тоски-кручи-ины, от пушек, от пищалей, от копий, от сабель, от тесаков…»
Умолкая, старуха аккуратно крестилась и склоняла голову в черной гладкой кичке. Такая же кичка, но с вышитым узором спереди, «сорокой» сидела на голове одной из молодых женщин; те были в широких полотняных сарафанах, в безрукавках, и в белой рубахе был дед… Словом, в этом лесном заповеднике, но не так далеко от города, Сергей Алексеевич попал нежданно чуть ли не в прошлый век; не часто уже, лишь в глухих местах, встречались такие вот островки старины.
— А идешь ты, мое дитятко, раб божий Владимир, на силу вражию несметную… — выговаривала распевно старуха. — И быть бы тебе перед тою силой соколом, а ей перед тобой полевкою… и быть бы твоему телу крепче железа, а груди твоей крепче камня Алатыря… и был бы ты в чистом поле удалым молодцом, а в доме добры-им отцом, с верною женою в ладу, с деточками в согласии.
— Ох, бабка, бабка — кремень, ни на какие доводы не поддается, — зашептал Сергею Алексеевичу впустивший его паренек; он стремился подчеркнуть свое неучастие в этом семейном молении. — Еще проклясть грозится… Это она батьку нашего заговаривает.
— Заговариваю я свой заговор матерним заповеданием, — как бы отозвалась на его слова бабка. — А и быть моему заговору во всем, как сказано, во веки нерушимо… Рать могуча, мое сердце ретиво, моя вера крепка, моя молитва всему превозможет. Аминь.
Она перекрестилась, согнулась до пола в поклоне, и все тоже низко поклонились; молоденькая женщина помогла подняться старухе, оказавшейся маленькой и тощенькой, и следом за нею встали все.
— Батька твой где? — спросил Сергей Алексеевич у паренька. — Воюет батька?
— Третьего дня домой приходил, Там, где он теперь, там немцы уже… А сегодня я к нему пойду, хлеб понесу. Воюет батька — ясное дело, — ответил паренек.
— Простите, что помешал, — заговорил Сергей Алексеевич со стариками. — Зашел к вам погреться. Незадача тут у нас… А погодка — хуже не бывает.
И все в молчании подождали, что ответит бабка, — видимо, ей принадлежало в доме решающее слово. Дед был уже очень дряхл, только мелко кивал голой морщинистой головой, опушенной птичьим пушком. А старушка в кичке медлила, присматриваясь из своих узеньких глазных щелок к позднему гостю.
— Доброго человека не гоним, — сухо проговорила она. — А от злого бог убережет. Садись, обсушись… Кто будешь?
Она не подобрела, когда Самосуд назвал себя и свою мирную профессию — учитель, и лишь спросила, не голоден ли он. Сергей Алексеевич от угощения отказался, но она все же распорядилась поставить самовар. Девочек она услала спать — босоногие погодки, лет восьми-девяти, хотя и любопытствовали, но тут же послушно отправились за занавеску; одной из женщин она дала какое-то хозяйственное приказание, и та, сунув ноги в сапоги и накинув на голову прорезиненный плащ — близость города все-таки сказывалась, — пошла из избы; внуку старуха приказала собираться в дорогу. Сделав все распоряжения, она приступила к расспросам, дед тоже сел к столу под иконами, но безмолвствовал — он был здесь номинальным главой.
— По какой надобности, батюшка, пожаловал к нам? — без обиняков осведомилась бабка. — Да в такое худое время?
И уклончивый ответ Самосуда: «А мы мимоездом… Конь у нас захромал», — ее не удовлетворил.
— Бережешься… Ну-ну… — ее темное, иссушенное лицо ничего не выразило. — Береженого и бог бережет…
— Ну что вы?.. Чего мне у вас опасаться? — сказал Сергей Алексеевич. — Среди своих-то…
Бабка пропустила это мимо ушей; она смотрела прямо, строго, не смягчаясь.
— Побежал город, — сказала она. — У вас там, я чаю, никого не осталось, все побежали. По деревням хоронитесь.
— Да ведь как сказать… К сожалению, не всех удалось отправить в тыл, — ответил Самосуд. — Не успели всех.
— А и бежать не годится, — сказала она. — Где ты живешь — там и живи, где беда тебя застала, там и стой… А то что же будет, как все спиной поворотятся?
— Зачем же все?.. Как величать вас по имени-отчеству? — спросил Самосуд.
— Егоровна я, а крестили Марфой… Я семьдесят девять годиков тут прожила, тут уже и помирать буду.


























