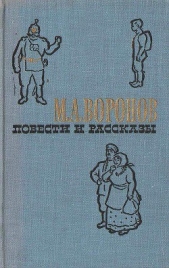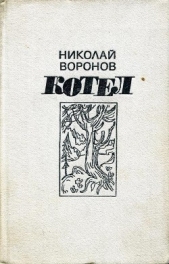Юность в Железнодольске
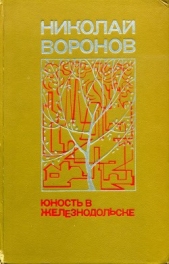
Юность в Железнодольске читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начали прикидывать, как доставить Матрену в поликлинику. На трамвае не получится: едет со смены народ. Значит, везти на салазках. Но каким путем? По шоссе долго, прямиком через горы — трудно.
Колдунов настоял: прямиком.
Взяли у Лошкаревых маленькие розвальни со стальными полозьями. На этих санях они вывозили навоз. Полина Сидоровна принесла тулуп. Закатали Матрену в тулуп, вынесли, положили.
Поначалу идти было легко: розвальни скользили по наледи. Мы даже припустились бежать и с мальчишеским легкомыслием припрыгивали и гикали.
Когда землянки остались справа, мы сразу почувствовали тяжесть саней: подъем стал круче и тормозила заводская сажа.
Останавливались. Широко разевали рты.
У каждого прытко скачет сердчишко. А Матрена молчит. Страшно наклониться, чтоб послушать, дышит ли. Заметив парок, пробивающийся сквозь космы тулупного воротника, радостно переглядываемся, тянем сани дальше.
Перед войной Колдунов был почти таким же коротышом, как и Лелеся Машкевич, он медленно подавался вверх, и все-таки перерос того на голову и заметно раздвинулся в плечах. В голосе его то пробивались, то пропадали басовые звуки.
С сестрой он старался не глотничать. Совсем не пререкаться не хватало терпения, но делал он это сдержанно, на полушепоте: она как-никак окончила курсы поваров и работала в столовой.
Вечерами у них собирались девушки, парни, подростки и мелюзга лет с десяти. Своих врагов Колдунов не пускал. Он заранее готовился к тому, как будет давать от ворот поворот кому-нибудь из недругов и что при этом скажет. Реплики отпускал ехидные, заковыристые, беспощадные.
Душой колдуновских вечеров была Надя. То сказку выдумает, то спляшет, то затеет игру в телефон.
Мы танцевали под патефон, а под гитару плясали. Заслышав звуки «Цыганочки» или «Вальса-чечетки», Колдунов подтягивал сосборенные голенища великоватых ему хромовых сапог (прислал старший брат),выпрыгивал на середину комнаты. Если был на нем пиджак, он швырял его на кровать, просил сестру повторить выход и поворачивался ко мне:
— Сережа, сбацаем?
Не дождавшись ответа, хлопал широкими, как блюдца, ладонями, обрушивал их, соединив клином, на грудь и, легонько, пружинисто подскакивая, шел по кругу; потом руки, прищелкнув пальцами, скрещивались и пошлепывали по плечам, вторя перестуку.
Чуть помедлив, начинал хлопать ладонями и я. Выход уже заканчивался, поэтому после хлопков я бил ладонями то по одной подошве кирзового ботинка, то по другой.
— В темпе! — кричал, ярясь, разрумянившийся Колдунов.
Надя быстрей подергивала струны.
Не будь Колдунов противно самовлюбленным человеком, я раньше его сходил бы с круга и откровенно признавал бы, что мне с ним не тягаться. Однако я не оставлял круга в никогда не говорил ему, что он пляшет лучше, чем я. А плясал он хорошо. Не просто щелкал — щеголевато, картинно, жмурясь от страстности, которую вкладывал в эту дробь пальцев. Не просто хлопал — то стрелял, то шелестел ладонями, щелкал пальцами, будто деревянными ложками. Несоразмерность его ладоней и приземистой фигуры (как непропорционально ей было у него все — нос, уши, губы) наводила на мысль, что он специально создан природой для этой пляски.
Иногда Надя и Толька пели. Она сидела на высокой кровати. Так ей было удобней аккомпанировать и петь: возвышаясь, она видела всех, а все ее.
Надя всегда пускала по плечам и рукам розовый с зелеными звездами газовый шарф. Его взлеты, трепет и колыханье, а также то, что ее голые золотистые руки светились сквозь шелк, придавало очарование и ей самой — бледной, носатой, губастой, с пористой кожей, — а главное, ее пенью и гитарным перегудам и рокотам.
Колдунов пел стоя, поглаживая хромированную кроватную шишку. Как в пляске, он отдавался пению без остатка, блестя глазами, никого не замечая, слушая свой голос и придавая ему неожиданно берущую за душу силу.
Тянем сани, надрываемся. Вот наконец колючая загородка, бараки. Когда-то здесь жили немецкие инженеры и техники. Я видел их и здесь, на горе, и на прокате, где они работали. Почти все длинные, очкастые, молчаливые.
Недавно у Перерушевых зашел об этих немцах разговор. Полина Сидоровна работала судомойкой в их столовой.
— Всякие среди них были, — вздохнула она, — и люди и нелюди. Коммунисты были, ничего о них не скажешь худого. Ничего. Но и фашист был. Молодой, белобрысый, носил черную куртку из кожи. Наденет куртку, глазами верть-верть, чисто ворон.
Мимо бараков, среди пятистенников Коммунального поселка, мы спускались легкой рысцой. Розвальни скользили сами, мы бежали обочь.
Вот дорога, уходящая горбато к пруду. Новая цепь холмов, куда чаще облепленная землянками, чем наши Сосновые горы. Надо перевалить эти холмы.
Дорожка посыпана каменноугольной золой, сани туго волокутся, скрежещут полозьями. Шучу ради бодрости:
— Толик, я сейчас язык на плечо вывалю на манер английского сеттера.
— А я, как Бобик, выпялю язык. На нижнюю губу и промеж клыков.
Колдунов тянет пятясь, запинается о кирпич и, охнув, валится на тропинку.
— Сынок! Ай упал? — слышится из тулупа.
— Побаловаться захотелось... Мамка! Ты на вид сухонькая, а весу в тебе ого-го.
В приемном покое заводской больницы Матрену принял бородатый врач и отправил нас домой.
Глава вторая
В утреннем полумраке, торопясь на завтрак в столовую училища, я встретил Тольку.
— От мамки иду. Из больницы.
— Совсем не спал?
— Боялся — умрет. Живая! Ты когда вернешься? Надино пальто хотел продать вместе.
— Не смогу. После завтрака у нас «оборудование коксовых печей», потом пулемет будем собирать и готовиться к параду. Будем рубить строевым.
Вечером, едва сбросив шинель, я стремглав выскочил в коридор барака. В комнате Колдуновых накурено. Тимур Шумихин играет на гитаре, Саня жужжит на расческе. Колдунов пляшет «Цыганочку».
— Серега, сбацаем?
— Устал.
— Выпей, и спляшем. Еля, где бражка? Для Сереги оставлял. Ай, дала́-да-ду́. Ай... Серега, загнать пальто Еля мне помогла. Были с ней у мамы и у сеструхи.
Лена-Еля поднесла мне ковш белесой, с зеленоватым оттенком жидкости. Я пил и глядел на Лену-Елю поверх ковша, а когда ковш, поднимаясь, заслонил мой взгляд, она щелкнула по его донцу.
Я допил, отмахнул от себя ковш и опять поглядел на нее. Бабы говорили: «Ельку уж можно замуж выдавать: все при ней».
Когда она хотела, чтобы кто-нибудь залюбовался ею, то начинала таращить свои серые глаза. У другой бы выходило глупо, некрасиво, у нее — нет.
С тех пор как я помнил Лену-Елю, она всегда была опасная и строгая. Парни, презиравшие девчонок, были вежливы с ней.
К мальчишкам она относилась с подозрением. Мы и стоили этого. К тому же за ней неусыпно следила мать и частенько нашептывала что-то устрашающее.
Последнее время Лена-Еля резко и непонятно изменилась: так просто и доверчиво ведет себя, что робеешь и стыдишься взглядывать на нее.
— В честь чего веселье? Надю, что ль, собираются выпустить? — спросил я.
— Кабы, — сказал Колдунов. — У Сани Колыванова кислушка поспела... А правда ничего, что мы веселимся? Скажут: «Мать в больнице, сестра в кэпэзэ, а они...»
— Могут сказать.
— Не умирать же с горя. А-ла-да-ду́й-да-да́.
— Ерунда, — сказал Тимур. — И на фронте люди веселятся. Убитых друзей жалко, повеселиться хочется. Нынче жив, завтра зарыли. Веселись! Не стесняйся!
Накинули на дверь крючок. Пели, танцевали. Били чечетку.
Сыровегина, пожилая многодетная женщина, считавшая себя очень правильной и по этой причине позволявшая себе ораторствовать в коридоре, разорялась:
— Раз война — сиди, прижамши уши. Двух гитлеров на такех пошли, однова уему не будет.
От Колдуновых я хотел идти спать, но Леня-Еля попросила одеться и выйти на крыльцо.
Ждала, притаившись в барачных сенцах. Засунула ладони в рукава моей шинели, молчала, потупившись. Я стоял и оробелый и злобный: то, что она вызвала меня, было прекрасной обескураживающей неожиданностью, а то, что грела руки в рукавах шинели, распаляло мою ненависть к себе: я грязный человек (вспоминалась комната с двухъярусными кроватями) и поэтому недостоин того, чтобы вот такая чистая девочка стояла со мной в сенях барака.