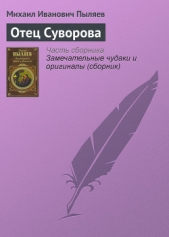Повести

Повести читать книгу онлайн
В настоящее издание включено две повести П. И. Замойского (1896-1958) "Подпасок" и "Молодость", одни из самых известных произведений автора.
Время, о котором пишет автор - годы НЭПа и коллективизации.
О том, как жили люди в деревнях в это непростое время, о становлении личности героев повествуют повести П.Замойского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начали гадать, сколько будет стоить новый, если купить на станции, и сколько, если попадется где‑нибудь у мужика. Я пошел дальше. Как ни плоха наша изба, из нее три стены, гляди, выйдет. Поставить на глину.
— Вот и пятистенка у нас, — торжествую я и уже представляю свой дом.
— На глину можно. Глина удержит, — соглашается отец. — Глина, она, сынок…
Но он не договорил. Дверь в амбар распахнулась, и показалось испуганное лицо матери.
— Эй, ты, чего сидишь? Не слышишь, что там идет? — и она указала по направлению к улице.
— Пожар, что ль? — вскочил я первый..
— Похуже, Петя. Скотину на войну забирают. Рев‑то слышишь?
Рев действительно слышен. Я и раньше его слышал, но думал — стадо пригнали.
Идем с матерью домой, отец торопливо запирает амбар и спешит за нами.
— Ведь у нас‑то не отберут? — говорю матери.
— Телка так и ухнет. Я Ваське велела ее на гумно гнать. Вон она, — указала мать.
Телка была не на гумне, а в коноплях, в борозде. Туда загнал ее Васька.
— Что же, даром они отбирают? — спросил я, так как при мне еще не было этого.
— Казенна расценка, — сказала мать, а у самой зуб на зуб не попадает.
Вообще‑то мать боится всякого начальства, а тут даже, как она говорит, «два с ружьями».
— Да не бойся ты! — успокаиваю мать, но меня тоже трясет.
Вдоль улицы ехали две подводы. Сзади к телегам были привязаны несколько коров и телок.
Двое военных, староста, писарь, еще один в штатском и двое понятых шли вдоль изб. Впереди — писарь. В руках у него список.
Останавливались не у каждой избы. Сейчас задержались у Никишиных. Старик вышел босой и сразу начал что‑то кричать, размахивать руками, но со двора уже выводили телку. Ее начал ощупывать незнакомый толстый человек.
— Сколько? — спросил его военный.
Не задумываясь, тот ответил:
— Семнадцать.
Старик снова принялся размахивать руками, кричать. Но военный тихо и ласково ответил ему:
— На войну берем, старина. Солдат надо кормить!
— У меня двое воюют, — прохрипел старик.
— Вот им и пойдет.
— Мне тридцать дает лавочник.
— То лавочник, а то казна.
— Дурак — не отдал! — воскликнул старик со слезой.
— Не умен, выходит, — согласился тот.
И оба военных весело рассмеялись.
Мать стоит в двери и дрожит, будто ее лихорадка треплет. Отец рядом со мной. Он без шапки. Лысина его блестит на солнце.
— Тятька, — шепчу ему, — я буду с ними говорить.
Быстро бегу в мазанку, надеваю на шею косынку, кладу в нее руку.
Вот они все ближе, ближе. Пройдут или остановятся?
— Здорово, солдат, — не доходя, говорит писарь. Я отвечаю. Он кивает на руку: — Болит?
— Да, не заживает.
Еще что‑то хотел он спросить, но уже подошли все. Я смотрю на военных. Один из них унтер, второй — прапорщик.
— Здравствуй, — говорит прапорщик тихо.
— Здравия желаю, ваше благородие, — отвечаю я не спеша.
— Давно с фронта? Что с рукой?
Вынимаю из косынки руку, показываю. В глазах его пробегает не то сочувствие, не то брезгливость.
— У них телка, — вдруг выпаливает староста.
Прапорщик смотрит на старосту, потом опять на меня. И не старосту, а меня спрашивает:
— Это ваша изба?
— Да, наша.
— Как вы в ней живете?
— Я ночую в мазанке, а остальные в сенях.
Плохо живете, воин. У вас есть лишний скот?
У меня ноги задрожали.
— Телушка есть, верно. Только, ваше…
— Самим нужна?
— На избу мы ее хотим продать. Телушка‑то дрянь.
Мать вышла. Лицо у нее синее, губы почернели.
— Господа хорошие, не отбирайте. Люди знают, как живем‑то. Ранетый вот, да на войне трое, да пятый готовится, — сразу выпалила мать.
Офицер удивился и спросил старосту:
— Правда?
— Вся семья — сплошь солдаты, — ответил староста.
— До свиданья, солдат. Поправляйся, — сказал офицер.
Не помня себя от радости, я быстро ответил:
— Спасибо, ваше благородие.
Офицер, отойдя, оглянулся на нашу избу, покачал головой и что‑то стал говорить старосте.
— Вот, мамка, — чуть не кричу я матери, которая все еще дрожит, — чудо‑то какое. Гони телушку во двор. Откармливай, и не будем ждать второй реквизиции.
Я решил, что телушку спасла моя рука. С нежностью вынул я ее из косынки.
Неожиданно подвернулась мне работа. Вот уже несколько дней, как мать и отец ходят на поденную к дьякону — молотить овес. Прибегает мать с тока и, запыхавшись, идет ко мне в мазанку, где я, по примеру Фили, тоже взялся починить иконостас.
— Петя, дьякону снопы возить с поля… Ты бы с Васькой мог? На телегу накладывать сумеешь?
— Лошадь чья? — спросил я, боясь своей Карюхи.
— Дьяконова. Он хотел Селиверстова парня позвать, а я ему и намекни про тебя. Как, можешь?
— Конечно, — обрадовался я.
— Тебе и Ваське по полтиннику. Рупь на день. Мне — семь гривен, отцу — рупь. Это дьякон‑то жалеючи нас. Охотников много. А он по отцу жалеет. Ведь лысый‑то наш дружит с ним, на клиросе, как теленок, мычит. И я дьяконице угождаю, белье стираю. Они вроде благодетели!
Я бросил работу, надел холщовую перчатку, сунул ломоть хлеба в карман и отправился с матерью к «благодетелям». На току у дьякона я этим летом еще ни разу не был.
У попа, у дьякона и у псаломщика тока рядом. Между ними огромные клади ржаных и овсяных снопов. Особенно много их у попа. У дьякона меньше, у псаломщика совсем мало. Клади попа высокие, как трехэтажные дома, ровно выложенные. Так и хочется оштукатурить их глиной.
Молотьба идет вовсю. У попа гудит конная молотилка, работают человек двадцать, у дьякона — в восемь цепов. Молотить в восемь цепов очень трудно Цепы бьют, словно пулемет.
Возле сарая дьякон осматривает веялку.
Ко мне подходит Дьяконова дочь, красивая белокурая Соня, пристально смотрит на меня, на мою руку и певучим голосом спрашивает:
— Больно было?
— Не совсем, — говорю.
— Скажите, как это получилось?
— Да очень просто: хвать, и нет руки. Ерунда. Соня, вы не волнуйтесь.
Сказав «подождите», Соня убежала. Скоро она вернулась, неся что‑то в фартуке.
— Возьмите, в поле пригодится.
Ба, да тут штук десять яблок! И еще каких! Сахарная бель!
— Спасибо, Соня. Очень много.
— Братишке дайте.
— Всем братьям хватит.
Васька уже подвязал чересседельник, ждет меня ехать. Он не подходит к нам, стесняется Сони.
Мы с ней стоим за кладью. Нас не видит ни се отец, ни молотильщики.
— Спасибо, — еше раз говорю я, рассовывая яблоки по карманам.
Но она не уходит.
Вдруг вижу, она краснеет и, чуть отвернувшись, тихо говорит:
— А не забыли, как мы играли вместе?
Я тоже краснею.
— Да, помню, — срывающимся голосом говорю ей. — Мы с вами… играли, кажется… в жениха и невесту?.. По скольку лет тогда нам было?
— Вам… двенадцать, мне… одиннадцать.
— Вот, Соня, какие мы были глупые. Теперь вы совсем невеста.
— А вы жених.
— Конечно, по годам и я жених, только никчемный, — говорю я, не глядя на нее. — Ну, Соня, надо ехать. Я снопы взялся вам возить.
— Что к нам не зайдете? — спрашивает она.
— Зайду. Давно ученье кончили?
— Только что, этой весной.
— Работать где будете?
— Прошение подала. Учительницей в нашу школу.
— Это хорошо. Попрежнему увлекаетесь книгами?
— Хороших нет.
— У меня кой–какие есть. Зайду, принесу, — обещал я.
Васька окликнул меня. Сели на телегу, сытая лошадь сразу пошла рысью.
Участок поповской земли занимал огромный скат к оврагу. Это самая лучшая земля в поле. Она в общий передел не поступала, а когда отрезали мужикам отруба, ее совсем закрепили за духовенством и по краям поставили столбы с выжженными буквами Ц. 3. — церковная земля.
Возки снопов хватило на восемь дней. Значит, мы с Васькой заработали по четыре рубля. Все же на что‑то я пригоден!