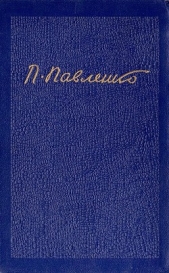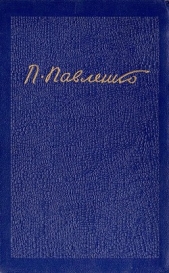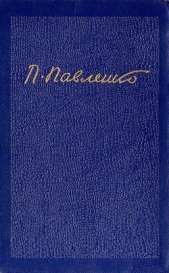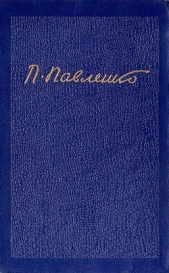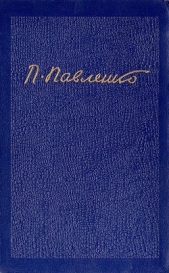Собрание сочинений. Том 3
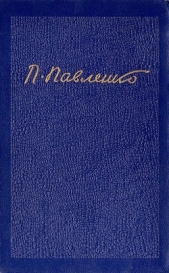
Собрание сочинений. Том 3 читать книгу онлайн
Повести и рассказы, включенные в настоящий том, охватывают более чем двадцатилетний период творчества П. А. Павленко. Из повестей вошли: «Пустыня» (1931), «Русская повесть» (1942), «Степное солнце» (1948–1949) и рассказы, написанные с 1928 по 1951 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда с трудом нахожу я веревку рядом с железной дверью старинного входа, неожиданно гулкий крик меди с дерзкой силой, играя эхом, низвергается в долину.
Тут я только соображаю, что, кажется, дернул не за ту веревку.
Старичок Коля в туманных выражениях объясняет, что у дверей есть другая бечевка, а этот колокол когда-то будил долину в часы военных тревог.
Нам немного стыдно, что мы возвращаемся в монастырь под гул боевого колокола. Не разбудил ли он спящую долину? Не потревожил ли мирной ночи беспокойным предчувствием? И мы осторожно подходим к обрыву взглянуть на темноту, поднимающуюся с самого дна долины.
В черной мгле одна за другой тревожно возникают несколько маленьких желтых точек. В самом деле, не проснулись ли там? Не померещилось ли там во сне, что старый монастырь зовет на помощь? Может быть, древние старики, живущие приметами, уже ковыляют сюда по каменным тропам?
А что, если б действительная опасность угрожала этому монастырю? Что б я тогда делал?
Не раз и не два ударил бы я в колокол, чтоб разбудить долину и созвать людей на этот высокий горный гребень.
Мы защищали бы его с мужеством, которого требует история Гелати.
— Смотри, мы, кажется, разбудили с тобой даже небо, — сказала моя жена.
В самом деле, что с небом? Оно заволновалось, как море в суровом шторме. Грохот самолетов потряс его от края до края. Иной раз казалось, что от дрожания воздуха раскачиваются ветви жасмина и крохотные камушки сыплются вниз с обрыва. Над городом, вдали, взбегали немые молнии прожекторов.
Война?
Нет, не может быть. Но тогда чем же объяснить это небесное возбуждение, эту погоню в небе за неизвестной угрозой?
Конечно, сейчас надо бы двинуться в город, но мы не знали дороги, да и небо скоро затихло. Соловьи — и те угомонились. Лишь самые охмелевшие коротко вскрикивают, устав петь длинно.
Есть в лунной грузинской ночи нечто такое, что навеки вошло в русскую душу и неотделимо от нее. В темной дали времен началось наше родство, оно окрепло в общей борьбе, оно предстало в нашей поэзии, в нашей музыке, обогатив нашу душу тончайшими оттенками радости и восторга.
Пушкин и Грузия, Лермонтов и Кавказ, Марлинский и горцы, и Грибоедов, и Маяковский, и Николай Тихонов, и грузинская поэзия. Но связи наши еще глубже, еще нерасторжимее:
Грузия дала России Сталина!
Какими родными стали миру и человечеству дикие берега Лиахвы, где проходила его юность! Какими близкими стали узкие улицы Тбилиси, где начинал он свой политический путь!
Нет, в любую тревожную ночь я не оставил бы одинокой Гелатской горы.
…Утром мы пешком идем в Кутаиси. Как дети, смотрим на встречные развалины, сидим на скалах у реки, шагаем по шпалам, а вечером уезжаем на север.
И вдруг в Москве, намного позже, мы узнаем из речи Молотова, что как раз в то время, когда мы были в древнем грузинском храме, над Грузией появился неизвестный самолет.
И то, что таким непонятным показалось тогда, вдруг стало правдой, законченной, как рассказ.
Мы в самом деле умерли бы на горе Гелати, защищая ее.
События только назревали, и хотя ничего не случилось, все в нас самих было готово к подвигу.
1940–1942
Рассказ в горах
Страшный рассказ довелось мне однажды услышать.
Я ночевал в городке у моря. Наутро предполагалась поездка в глубь Дагестана. Жестокая февральская ночь рано наступила после серого ветреного дня, похожего на длинные сумерки.
Поутру у моря было так мрачно и противно, мокрое месиво из дождя и снега так отвратительно хлестало в лицо, а ветер был так свиреп и страшен, что ни о какой поездке в горы не приходилось и думать.
Но спутник мой верил в горы.
— Клянусь глазами, — сказал он, — там будет такая температура, что удивление!
И в полдень мы выехали. Шоссе было пустынно и дико. Ветер гнал воду из лужи в лужу, и по мокрым косогорам неслись охапки сена, должно быть за ночь разметанного из стогов.
Горы долго не начинались.
Невысокие холмы ленивой грядой окружали дорогу, невдалеке за ними начиналось небо.
Казалось, стоит лишь сойти с машины, пройти шагов двести за первый холм — и упрешься в свисающий к земле край серого мокрого ватного одеяла, которое и есть небо.
— Где же ваши хваленые горы? — не раз спрашивал я у своего спутника. — Где эти ущелья, горные реки, перевал? Где это «оттоль сорвался раз обвал и с тяжким грохотом упал»?
Слов нет, погода расстраивала и моего спутника.
— Наверно, у них выходной, — шутя бурчал он сквозь зубы, к великому удовольствию шофера, который бросил руль и стал двумя руками смешно чесать свою вихрастую голову.
Шутка их увлекла. Заливаясь смехом, они намерены были развить ее дальше.
— Горы, наверно, на Кизил-Яр пошли. Маленький митинг там сделают.
По часам еще длился день, а стало совсем темно, — темно по-ночному, и шофер беспокойно прибавил скорость.
Густая и прочная темнота заволокла дорогу. Свет автомобильных фар с трудом прокладывал в ней узкую щель, упирающуюся в тупик тьмы.
Кругом все спало. Ни огонька, ни шороха живого движения, ни запаха жилищ. Аулы как провалились сквозь землю.
При включенном свете ехать стало еще труднее. Машина скользила в канавы. Брызги дождя и мутной хляби из луж густо залепили смотровое стекло, и «механический дворник» только растирал грязь по всему стеклу.
В промокшей с утра одежде было холодно и не дремалось. Ветер залезал под белье и грелся у самого тела. И все-таки, говоря откровенно, прекрасно было ехать по дикой, безлюдной, опасной из-за ветра и дождя дороге, навстречу невидимым горам.
— Как я говорил, так и есть. Вот они! — сказал вдруг мой спутник, и, полусонный, хмурясь от ветра, я опустил боковое стекло.
По седловине высокого перевала машина осторожно спускалась к широкому озеру света, образованному горами в похожей на черпак долине.
Крыша ночи была приоткрыта, и меж нею и землей ослепительно горела темно-золотая полоса заката.
Нечто напоминающее шторм только что пронеслось здесь. Цвет воздуха напоминал волну, устало качающую на себе белые разводья пены вместе с темными пятнами водорослей, бликами заката, голубизной сбитых с толку течений и желтыми кругами поднятого со дна песка.
Едва угадываемые полосы озимей, клины зяби, пространства бурых трав и синие, оранжевые, золотые покровы дальних гор пестро мешались в черпаке долины. Впереди неба, как декорации среднего плана, в беспорядке опущенные на невидимых нитях, покачивались горы.
Так на мгновение показалось с машины.
Пейзаж был неожиданным по редкой и мрачной силе. Быть может, за много тысячелетий впервые так сложились условия дня, что возникло вдруг это удивительное сочетание красок.
Дорога вильнула вправо. Черная крыша ночи приопустилась — тонкое острие заката держалось еще два-три мгновения. Еще поворот — и оно исчезло. Ночь стала как-то еще глуше и нестерпимее.
— Хорошо бы переночевать где-нибудь, — сказал я. — Куда мы к чорту стремимся в такой темноте!..
— Негде, — строго ответил шофер. — Какой-нибудь огонь увидим, тогда…
Ветер остался позади, но теперь его вой переняла машина. Она все время скулила, как трусливый пес, которого толкают на опасное дело.
— Еще один поворот, — бормотал шофер, и было непонятно, что он имеет в виду: на дороге не было ничего, кроме поворотов.
Сплошной поворот вправо и влево, словно дорогу для испытания шофера все время выдергивали у него из-под колес, а он с кошачьей ловкостью каждый раз ухитрялся уцепиться за нее хотя бы тремя колесами.
Голова гудела от ветра.
— Зря ехали, — сказал мой спутник. — Во-первых, опасность большая — дорога скользкая, темнота. Во-вторых, интересный вопрос: где ночевать будем?
— А в-третьих, бензин кончается, — захохотав, добавил шофер.
У какого-то поворота мы вылезли.