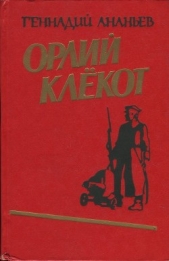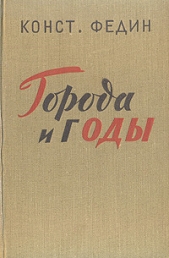Города и годы. Братья
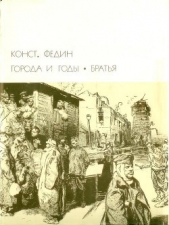
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Милый Густав!
Уже шесть месяцев от тебя нет никаких известий, и Лизбет говорит, что может случиться, что тебя уже нет больше в живых. Но я не хочу этому
верить. Густав, ведь без тебя мне нечем будет жить. На прошлой неделе вернулся из плена Генрих Менерт, у него отрезали по плечо руку, и он рассказывал, что в Сибири вовсе не так страшно, что летом даже очень жарко и что хлеба в России все еще много. Он говорит, что хорошо, что ты попал в Россию, так как плен сохранит тебя для нас, а на фронте дело кончилось бы хуже. Я только молю бога, чтобы скорее кончилась война, потому что стало тяжело. Милый Густав. Я все думаю, какой ты найдешь нашу деревеньку, когда вернешься. У мельника Томаса старший сын убит, а младший Пауль пришел с фронта слепым, и он перестал работать, так что мы ездим молоть в Люкендорф. Слава богу, это приходится делать теперь очень редко, а то наш Серый перед пасхой пал, и теперь из-за каждого пустяка надо нанимать лошадь. Этой весной мы не сеяли из-за Серого и еще потому, что отец не вставал с постели. Сегодня духов день, а вчера, на троицу, во время мессы, сошла с ума тетушка Анна. Перед этим ее портрет напечатали в нашей газете — по случаю того, что ее шестого сына Ганса так же убили на фронте, как пятерых, а у ней всего и было, что шестеро, о чем я тебе два раза писала, не знаю, получил ли. Она помешалась, как раз когда патер говорил, что тетушка Анна отдала на алтарь отечества все, что ей дал господь, и вся деревня плакала. Прости меня, милый Густав, я тоже плакала о тебе и о твоем душевно любимом брате Августе, про которого я писала тебе, что он ранен в грудь, и об отце, что он так и не дождался твоего возвращенья. Лизбет говорит…
Но в этом месте чтения сквозь немоту барака прорвался к Андрею дребезжащий голос:
— Значит, отца похоронили?
Андрей замолк.
— Может быть, Август тоже умер? — резче и выше задребезжал голос.
Какая-то рука с вывернутыми длинными пальцами тянулась над головами пленных к Андрею.
— Дайте сюда письмо! Ведь это пишет Эльза!
— Это пишет Эльза, — сказал Андрей. — Вот здесь подписано: Эльза.
Трубочные дымки гуще и торопливей заструились от бескозырок к завесе под крышей. Пленные навалились на скамью, вдруг сросшись в безликую выжидающую толпу.
И тогда что-то холодное полыхнуло Андрею в спину — от затылка до пят, — и он вспомнил заученную свою речь, вспомнил по-новому, такой, какой она ему никогда не приходила на ум. И, не видя лиц, ни пустоты за несчетными глазами, ни дымовой завесы, ни барака, а только окунаясь в полыхавший откуда-то необъяснимый холод, Андрей с ожесточенной злобой к словам, которые мешали мысли, кричал поверх голов в простреленных бескозырках, кричал о том, что надо сделать, чтобы потерянные письма не искали тщетно потерянных по свету Шмидтов…
Потом Андрей и Курт в бесшумных сумерках стояли на дворе барака, ожидая ответа пленных. И когда совсем стемнело, дверь барака раскрылась. К Андрею подошел солдат и пыхнул на него табаком из вишнёвого листа. Трубка осветила его бронзоволицую одноглазую голову. Он коротко сказал:
— Можете передать своему совету: пленные решили поддержать большевиков.
Впервые в жизни
Самовар не сходил со стола. Трубу воткнули длинным коленом в камин, корзинка углей стояла рядом с посудой, клейкой и захватанной грязными пальцами. Чай заваривали попеременно в двух трактирных чайниках и пили густой, черный, как йод. Кончалась вторая ночь без сна и отдыха.
У Голосова набухли веки, зрачки по-кошачьи расширились, но поблекли, и взгляд был непослушен и вял. Он держал голову руками, уткнув локти в стол, и мутно уставился в глаза Покисена.
— Пойду я! — хрипло сказал он.
Покисен был бледен, синие жилки на его висках бились тревожно, он через силу говорил спокойно:
— На твоей шее город и уезд. Военком ничего
в этих делах не смыслит. На тебе газета, на тебе все. Пойду я.
— Нет, я.
— Я знаю, что ты осел. В обычное время — это хорошее качество. Теперь нужен расчет. Пойду я.
— Это мы увидим.
— Увидим!
— Иду я.
— Нет, я.
Мутный взор близится к золотым очкам с жирными стеклами. Сквозь жирные стекла холодят белые глаза. Лица сближаются медленно и непоколебимо, лица упрямы и мрачны, лица тверды, как камни.
— Я!
— Нет, я.
— Чего вы… словно бараны? — просопел военком, ввалившись в комнату.
Он по-прежнему отдувался, пыхтел и лоснился от пота, говорил, задыхаясь и ловя подолгу ртом воздух. Он устал раз навсегда в жизни, и никакая новая усталость, ни работа, ни бессонные ночи не могли изменить его вида.
— Через час отряд будет готов к маршруту, — сказал он, нацеживая чаю. — Рота сводного ожидает его у Старых Ручьев. Задание — к десяти утра овладеть Саньшином.
Он отхлебнул чаю и обернулся.
Голосов и Покисен не двигались. Налитые кровью лбы их почти соприкасались друг с другом, губы беззвучно дергались, в выпяченных глазах стыло желтое пятно лампы.
— Ф-фу, ч-черрт! Что с вами? — пропыхтел военком.
Тогда Голосов и Покисен бросились к нему и наперебой завопили:
— Втолкуй ему, пожалуйста, что мое присутствие в городе совсем не нужно!
— Вздор, ерунда! В такое время бросить особый отдел…
— Подожди!
— Если бы речь шла…
— Постой! Я говорю, что…
Военком замахал руками.
— Довольно! Понял, понял!
Он отошел в сторону, сел в кресло и вытянул из кармана папиросницу.
— Прежде чем заняться вашими препирательствами, — сказал он, сопя и продувая папироску, — я, товарищи, должен передать вам одно постановление. По моему докладу комитет назначил комиссаром отряда товарища Покисена…
Голосов отскочил к окну и стал к военкому спиной. Покисен поправил очки.
— Ты говоришь, отряд выступает через час?
— Черт с вами! — гаркнул Голосов и рванулся
к выходу. — Я буду в типографии.
Вбивая каблуки в звонкий пол, он с размаху ударил по дверной ручке и распахнул дверь. Потом остановился на секунду, круто повернул назад и подошел к Покисену.
— Счастливо, Покисен, — сказал он.
— До свиданья, Сема.
Они дважды коротко тряхнули друг другу руки, и Голосов вылетел из комнаты.
В сенях он наткнулся на няньку. Она шла со свечой, и непокойный свет трепыхал по ее темным морщинистым щекам. Она придержала Голосова за рукав и старческим шепотком спросила:
— Самовар-от кипит?
— А что?
— Я, мол, ты скоро вернешься, подогреть иль не надо?
— Ладно! — отмахнулся Голосов.
Нянька торопливо дернулась к нему и, как старая заговорщица, посвященная во все тайны, строго спросила:
— Справитесь, что ль?
Тогда на лице Голосова тепло колыхнулась улыбка, и он прикрыл ее ладонькой — обычным своим стыдливым движением.
— Обойдется, няня, — проговорил он и выбежал во двор.
На рассвете в чадной от ламп типографии товарищ Голосов дочитывал гранки воззвания ревтройки «к рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Семидола».
Свисавшие со лба волосы все чаще и чаще падали на бумагу. Карандаш дрожал на искривленных строчках жирного, пахнувшего керосином оттиска. Последние слова воззвания были набраны так:
Голосов нацелился затупленным карандашом на букву «п», но длинные прямые космы закрыли вдруг смешавшиеся строки, и голова упала на руку. Голосов что-то пробормотал и повис на столе.
Метранпаж осторожно вытянул оттиск из-под неподвижной косматой головы председателя исполкома.
На третий день сполоха, в понедельник, в дождливые сумерки, вернулись в Семидол военный летчик Щепов с наблюдателем. Они пришли пешком, мокрые, оборванные.
— Где «ньюпор»? — выдавил из себя военком, едва они показались в редакции.