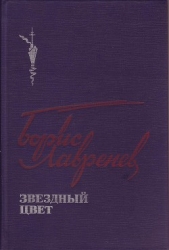Звездный цвет: Повести, рассказы и публицистика

Звездный цвет: Повести, рассказы и публицистика читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как же это он так мог ответить? — иронически перебил Рощина Новиков. — По-ихнему надо было ответить: «Так точно, ваше превосходительство».
— Тю на тебя! — цыкнул на Новикова Загорулько. — Чего цепляешься? Фантазии у тебя нет, Новиков… Это же сказка… Продолжай, Рощин!
— Может, он и сказал, Кошка-то: «Так точно, ваше превосходительство», — потому что матрос был хороший, а хороший матрос всегда по правилу должен отвечать, — рассудительно заметил Рощин, — только это ж неважно. Вот Загорулько правильно говорит, что в тебе фантазии нет. Все тебе «что», да «как», да чтоб по, арифметике сходилось, как дважды два четыре. Это вот, что я рассказываю, душой понимать надо. Не мог, говоришь, памятник от немца уйти, а ты припомни, как в школе Пушкина учат. Небось «Медного всадника» назубок брал. А там тоже за сумасшедшим памятник на коне через весь город гоняется.
— Равняешь, — ответил Новиков, — Пушкин когда жил? При нем еще в лешего да в ведьму верили.
— А ну тебя! — отмахнулся Рощин. — Скучный ты человек…
— Рассказывай дальше, — попросил Загорулько.
И Рощин продолжал:
— Тогда сошли они на землю вдвоем — адмирал с матросом. Огляделись вокруг, и опять Корнилов говорит: «Пройдем, Петр, по кургану, пока еще есть время. Посмотрим да послушаем, не бьется ли где еще жаркое краснофлотское сердце. Хорошо дрались паши внуки, дедовской чести не посрамили, себя перед пародом оправдали не хуже нас. И парод им спасибо скажет.
А ежели есть тут между них кто-нибудь живой, то никак не можем мы своего внука немцу на муки оставить. Немец на краснофлотца, как волк, ярится. Затерзает насмерть. А мы с тобой — моряки и живем по морскому нашему закону: „Все за одного, одни за всех“. И должны живого спасти». И пошли они тихонько по кургану. Подойдут к кому, наклонятся, послушают, вздохнут и дальше идут, а на вершине тихо, тихо стало. Видно, немец наконец сообразил, что никого уже не осталось на вершине, и стрелять перестал.
Так вот идут они медленно по гребню кургана, и нет кругом них жизни. Только вдруг слышит Корнилов — будто дыхание. Подошел — видит, раскинулся парень. Собой красивый, молодой, глаза закрытые, волосы от крови слиплись, а на голове бескозырка, и на ленточке — «Красный Кавказ». И широкая грудь его под тельняшкой чуть заметно колышется. «Смотри, Петр, — говорит Корнилов, — живой! Да красавец какой! Возьмем его, Петр, укроем от немца». И подняли они того комендора «Красного Кавказа», неизвестного по имени, взяли с обеих сторон под руки и повели. А немцы с румынами уже на кургане стоят, как голодные волки. Но только не увидели они ничего своими буркалами. И прошли сквозь немецкие цепи севастопольский адмирал Корнилов, матрос Петр Кошка и краснофлотец, прошли невидимками, спустились с кургана, перешли балку и так тихим шагом дошли до Инкермана. А там поднялись по каменной лестнице до самой высокой пещеры в скале, вошли в нее, и как вошли, то спустилась за ними каменная глыба и накрепко прикрыла вход от врага. И остались они там ждать того часа, как придут наши опять в Севастополь. В тот самый миг, как войдут на Северный рейд дорогие наши корабли и забьется на них по ветру наш боевой морской флаг, — подымется тот тяжкий камень, откроет вход, и пойдут назад тем самым путем Корнилов, Кошка и наш браток краснофлотец, взойдут на Малахов и встанут на свой гранит, все трое, рядком, рука об руку, два деда и внук, чтоб навечно хранить от врага наш Севастополь, чтоб не достиг его в третий раз враг. И пройдут мимо них почетным маршем, под музыку, все черноморцы и весь советский народ и отдадут им воинскую почесть и земной всеобщий поклон…
Рощин замолчал.
— Спасибо, друже, — тихо сказал Загорулько и поднялся. — Очень хорошая история. Аж за самое сердце берет… Так и будет! Весь народ никогда не забудет севастопольцев. А Корнилова на кургане мы уже скоро увидим… Пошли в кубрик.
Встал и Рощин. Две тени растаяли в темноте.
Штурман постоял у обвеса, боясь пошевельнуться, словно ожидая продолжения услышанной сказки. Потом вынул портсигар, достал папиросу и, закуривая, с удивлением обнаружил, что огонек спички пляшет в его пальцах и что эта дрожь пальцев вызвана, несомненно, большим и теплым волнением. Волнение это было рождено сказкой Рощина. В ней была поэтическая, мудрая прелесть, и она звучала как высокий символ народного уважения к героям и мученикам двух легендарных оборон легендарного города, как выражение глубокой веры народа в то, что город этот будет вновь возвращен родной стране.
Штурман докурил папиросу, вернулся в рубку и, присев к столику, не отрываясь, записал сказку на обороте испорченной карты.

― Публицистика ―

ДВЕ ВСТРЕЧИ С ФУРМАНОВЫМ {24}
17 октября 1919 года я выписался из красноармейского госпиталя в Москве с незажившей раной. В госпитале царила настоящая голодовка. Вся пища раненых заключалась в нескольких вариантах: теплой воды с плававшей в ней размочаленной воблой, разваренной ржи и куска черного хлеба.
Жиров не было и в помине. От этого раздробленные кости ступни не срастались, рана не закрывалась.
Кое-как на костылях я добрался до штаба МВО и там выпросил себе назначение в распоряжение инспектора артиллерии Востфронта в Самару.
О Самаре шли слухи, что там вдоволь и масла, и сала, и белого хлеба. Эти фантастические слухи давали надежду, что усиленное питание поможет встать на ноги.
С трудом убедив начальника отдела формирований в том, что с одной ногой можно нести штабную работу, я обычным модусом передвижения, в нетопленой теплушке дотащился за трое суток до вожделенной Самары.
Но инспектор артиллерии фронта наотрез отказался принять одноногого инвалида. После долгих объяснений он отправил меня к секретарю М. В. Фрунзе — Савину. Савин, едва взглянув на меня, решил категорически.
— Отправляйтесь к Фурманову.
— Почему? — спросил я. — Я же не политработник, а строевой командир.
— Поговорите с Фурмановым, — коротко отрезал Савин, вручая мне записку.
Через десять минут я впервые увидел Фурманова. За столом сидел молодой человек, совсем юноша. Каштановые волосы пышной копной стояли над крутым гладким лбом. На щеках горел какой-то особенно нежный румянец, которому я и сейчас не могу найти иного определения, кроме девичьего. Он смотрел на меня ясными и теплыми глазами и чуть улыбался, читая записку Савина. Положил ее на стол и без всякого вступления огорошил меня вопросом:
— Вы сумасшедший или нет?
В те баснословные годы я был горяч и вспыльчив и, в свою очередь, спросил:
— А вы?
Фурманов улыбнулся. У него была какая-то особенная улыбка. Очень простая, интимная и обезоруживающая. Улыбнувшись, он пристально посмотрел на меня и, покачав головой, сказал:
— Видите ли, товарищ, с моей стороны в вопросе есть логика, с вашей — ни малейшей. Вы проситесь в строевую часть? А на кой черт, скажите, вы нужны в строевой части в таком виде?
Я буркнул что-то несвязное, но долженствовавшее убедить, что у меня неплохой вид и что я смогу лихо держаться где-нибудь в штабе бригады.
Дмитрий Андреевич помолчал, продолжая со скептическим любопытством разглядывать меня.
— Какое у вас образование? — спросил он неожиданно.
— Военное?
— Нет. Военное мне известно из вашего предписания. Общее.
— Юридический факультет.
Он задумался, упирая в лоб кончик вкладыша. Потом быстро написал что-то на блокнотном листке. И, подняв голову, четко сказал мне:
— Пойдете в общежитие штаба фронта и получите койку у коменданта. А затем отправитесь на фронтовые курсы агитаторов и будете читать курсантам историю общественного движения в России.