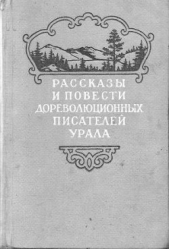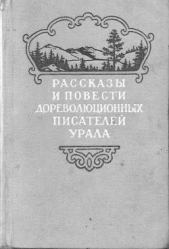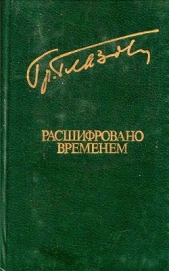Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков
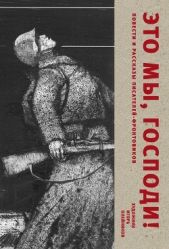
Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков читать книгу онлайн
Книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все авторы произведений — писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Повести и рассказы участников войны — о человеке один на один со смертью, когда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему. Это дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт.
Для этой книги известный художник Игорь Олейников создал 35 уникальных рисунков. Книга для взрослых с иллюстрациями — прекрасный подарок всем любителям художественной литературы. И прежде всего — подарок для всех, кто хочет знать и не забывать правду о войне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Горбатюк, наверно, замечает мою короткую растерянность и отчужденно хмурит брови.
— А что это вы так… удивляетесь?
— Да так.
Обеими руками я поворачиваю на скатерти фужер, бессмысленно разглядывая, как переливаются на его гранях искристые отражения бра.
Горбатюк с каким-то предостережением оглядывается на молодежный стол и вздыхает:
— Ты, наверно, думаешь: трибунал — это сплошное нарушение законности? Теперь так модно считать. Модно реабилитировать. Модно валить все на судей. И никто не задумается: во имя чего они все то делали? Распутывали преступления, не спали, недоедали, мотались по передовым, попадали под бомбежку. Во имя чего?
Однако деланый его запал меня не трогает.
— Может, во имя победы? — спрашиваю я с иронией.
— А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада?
Недавнее мое расположение к нему начисто исчезает.
Я не знаю, что он за человек и каким был председателем трибунала. Но я чувствую, что эта его горячность имеет свои корни. Он явно чем-то обижен, с чем-то не согласен и уже готов спорить, отстаивая свою непонятную мне правду.
Но я с ним спорить не буду.
Я не хочу с ним спорить, так как отказываю ему в этой его правде. Не может быть его правды там, где есть его перед людьми вина. В моих чувствах и памяти до сих пор живет немало несправедливо-обидного из тех давних времен, в которые неплохо хозяйничали такие вот председатели трибуналов. Не забылось, как ушли из полка и не вернулись ребята за сдачу позиций, которые невозможно было удержать, за неисполнение невыполнимых приказов, за стычки с начальством и за так называемые недозволенные разговоры тоже. Я помню, наконец, старшего лейтенанта Кротова, который на счастье свое или на беду не дошел до рук такого вот председателя. И за что? Я-то знаю, что ни за что, но это вовсе не означает, что Кротов вернулся бы назад, в батальон. Так неужели теперь, через много лет после войны, когда столько перевернулось в общественной жизни страны, неужели не коснулось этих людей чувство вины или хотя бы угрызения совести?
Я хочу спросить его об этом, но Горбатюк опережает меня.
— А я и не думаю скрывать, кто я и что я, — с заметным отчуждением говорит он. — Я поступал согласно закону. Если что — можно поднять архивы. Там все налицо. Оформлено и утверждено. Я грехов за собой не чувствую. Можно справиться у сослуживцев, начальства. Я не прохвост какой-нибудь. Бывало, приеду в полк — почет и уважение. Командир полка первым честь отдает. Хоть я капитан, а он подполковник. Вот как!
Я молчу. Он, чувствую, однако, волнуется: то ерзает на стуле, то откидывается на спинку. На его мясистом лице — выражение обидчивой замкнутости.
— Война — не мать родная. Там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что же — сознательность? Сознательность — в газетах, а тут принудить надо. Чтоб боялись.
— Слушайте, Горбатюк! А не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами сейчас реабилитирован?
Горбатюк делает наивные глаза:
— Ну и что ж! Вполне естественно. Реабилитирован — и с Богом. Я всецело одобряю и поддерживаю.
— А вы не боитесь с таким вот на улице встретиться?
Горбатюк бросает на меня настороженный взгляд и, кажется, искренне удивляется:
— А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь — другие. — Он оглядывает зал и добавляет уже спокойнее: — Да и не встретятся. Еще не встречались.
— Что, разве всех — к высшей?
— Почему всех? Не всех. Разбирались, — говорит он и засовывает руки в карманы брюк. В глазах его появляется выражение нагловатой самоуверенности, он смотрит на меня почти враждебно.
Да, это его успокаивает. Не вернутся. Все сделано чисто. Все по правилам оформлено, утверждено. Осужденные не угрожают, совесть не грызет. А за все подлое и противозаконное пусть отвечает Берия.
Горбатюк встает и, отодвинув штору, решительно открывает окно. Широкий поток прохлады врывается в зал. Через минуту становится довольно холодно, и он надевает темный в мелкую клеточку пиджак с очками и двумя авторучками в нагрудном кармане. Он замкнут, однако мысленно, так же как и я, видно, продолжает наш не очень приятный разговор.
— Нет, дорогой, ошибаешься. Это теперь развели демократию. Готовы всех сволочей реабилитировать. Презумпция невиновности! Доказательства! Болтовня все это. Если что, он тебе так все перекрутит, что хоть ты его награждай. Тут нужно чутье иметь. Нюх. Правда, у меня глаз был наметан. Я, бывало, на такого взгляну — и насквозь вижу. Доказательства — десятое дело. Доказательства, если понадобятся, на каждого можно составить.
От соседнего стола встает плечистый, в серой куртке блондин:
— Окошко можно закрыть? Девчата просят.
Горбатюк резко поворачивается и недоуменно смотрит на парня. Тот широким жестом захлопывает фрамугу.
— А ну откройте! — мрачно приказывает Горбатюк и встает.
Блондин подходит к своему столу, и Горбатюк широко распахивает окно.
— Не вы открывали, без вас и закроют.
На лице у парня короткая растерянность. В его серых живых глазах вспыхивает острый огонек.
— Девчата замерзли! Вы понимаете?
— Замерзли — пусть дома сидят. В ресторан, как и в монастырь, со своим уставом не ходят.
— Ну, знаете!..
Сделав почти фехтовальный выпад, парень с треском захлопывает окно. Горбатюк резким рывком его открывает. Молодежь за столом оборачивается в их сторону.
— Игорь, хватит! Нам уже не холодно.
— Игорь! Игорь! Оставь ты. Мы сейчас пойдем! — вскочив, зовет друга Эрна.
Игорь сквозь зубы бросает что-то оскорбительное и возвращается за свой стол. Горбатюк, удушливо сопя, садится на место. Хватается за сигарету. Руки у него дрожат.
— Видел? — кивает он мне. — Видел, что делается? Пацан, молоко на губах не обсохло, а гляди ты! Нахальство какое!
Он прикуривает, бросает на пол спичку, на стол — коробку.
— Распустились, умники. Как те в войну. Старший который, так помалкивает или просит дать искупить вину в бою. А попадется лейтенант, только из училища, на губе пушок, а уже философию разводит. Как же — десятилетку закончил! То оружие ему не нравится. То приказ неправильный. Наглецы!..
Я поглядываю на его заметно помятое жизнью лицо, морщинистую короткую шею. В глубоко упрятанных под бровями глазах зло поблескивает что-то, не то испуганное, не то нагловатое. Отражение какой-то затаенной мысли блуждает в их глубине. Я не хочу думать об этом человеке предвзято. Но я не вижу в нем и того, что хотелось бы видеть, — ни тени сожаления, раскаяния, отражения передуманного и пережитого. Передо мной с обиженным видом сидит обозленный мужчина, который не намерен ни в чем отступать. И от этого его упрямства у меня потихоньку накипает гнев. С усилием я борюсь с собой. Надо быть спокойным. Мое оружие теперь — только логика, она мне послужит верно, ибо я — прав.
— Скажите, Горбатюк! А вы убили на войне хоть одного фашиста? — спрашиваю я спокойно, насколько мне это удается.
— Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В двадцатое столетие — полное разделение труда. В том числе и на войне. Кому бежать в атаку, кому стрелять из пушки. Кому летать в небе. А другой всю войну просидел за столом в штабах или варил сталь. У каждого свое дело.
— Ваше было — судить.
— Ну и что ж? Судил.
— Несчастных за плен? Командиров — за невзятие высот и деревень? Лейтенантов — за разговоры. За выдуманный контакт с врагом? За ночлег в одной деревне?
Я почти кричу. Что-то в моем поведении его, видимо, насторожило. Он оглядывается и кривит в гримасе губы:
— Случалось. Судили и за это.
— А теперь вы не раскаиваетесь?
Он вскидывает голову. В глазах его ненависть.
— В чем?
Мы уже оба кричим. За соседним столом оборачиваются в нашу сторону. В другом ряду оглядываются офицеры. А перед моими глазами — снова чадный туман. Я вскакиваю из-за стола. Он откидывается на стуле. Сердце мое делает несколько пропусков, затем судорожных сильных ударов. В груди знакомая пустота и слабость. Зал шатается. Я хватаюсь за грудь и, задевая стулья, торопливо шагаю к выходу.