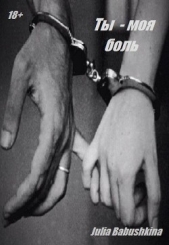Невидимый огонь

Невидимый огонь читать книгу онлайн
В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ингус!
Он должен был быть где-то здесь, поблизости, иначе он надел бы пиджак, положил на место топор.
Велдзе обошла вокруг сарая. У южной стены жужжала и звенела мошкара. На рукав ей села божья коровка и поползла вниз, к ладони. Велдзе протянула руку к солнцу, ожидая, что букашечка в черную точку вспорхнет, но та все ползла, и Велдзе со странным — скорее грустным, чем радостным — удивлением смотрела на яркую живинку, пробужденную приходом весны.
— Божья коровка, глянь на небо, дам тебе хлеба… — приговаривала она шепотом, как в детстве, и божья коровка расправила крылья и тут же скрылась — как растаяла.
— Ингу-ус!
Она прошла до гаража. И машина, и мотоцикл стояли на месте.
«Здесь он где-нибудь», — уверяла себя Велдзе, а сердце у нее, как от дурного предчувствия, больно сжалось.
— Ин-гу-ус! — окликнула она в последний раз, не надеясь больше, что он отзовется, и он действительно не отозвался.
А Ингус и не мог ответить на ее зов — в эту минуту он был уже далеко, намного дальше, чем Велдзе могла предположить, почти что в Ауруциемсе, а дотуда от Лиготне одиннадцать километров — одиннадцать по шоссе, а если срезать крюк и жать напрямик, мимо школы механизации, то семь; но на мотоцикле Альберта Краузе им, само собой, не было нужды трястись через поля и ломиться сквозь лесок только затем, чтобы сэкономить несчастных четыре километра, что для «Ижа» сущий пустяк: они лихо мчали по шоссе и прибыли в Гутманы прежде, чем Велдзе кончила мыть посуду и наконец сообразила, что в сарае воцарилась тишина. И когда она в последний раз Ингуса окликнула — уже сильно сомневаясь, что тот отзовется, Краузе вытащил зубами из бутылки пробку и налил Ингусу и себе в пластмассовые стопки, удобные, потому как упадут — не разобьются, и в них не видно, что жидкость мутновата и малость с желтизной, — ведь для крепкого напитка главное градусы, а не вид, горькая должна шибануть в голову, а не розовой водой пахнуть, так-то.
— Ну, дернем! — подгоняет Краузе. Жена у него на два дня уехала к дочери, так он без хозяйки прямо пропадает. Корова, хрюшка, куры — тьфу, и это называется воскресенье!
Краузе свою чарку опрокинул не моргнув, а Ингус потянул носом и сморщился.
— Чего обнюхиваешь, как собака столб? Хряпнул — и вся недолга!
— Это она, вчерашняя?
— Угу! А что такое?
— Вывернуло меня наизнанку, — признался Ингус. — А ты знаешь, какой у меня желудок — гвозди глотать могу, и хоть бы что.
— Стоп! Нормальное похмелье — это да, а дурноту ты где-нибудь еще подцепил, не от моей сивухи! Хлебнул какой-то дряни до того… Не надо было нам у лавки сосать винишко, факт, а дуть бы сразу ко мне. Да побоялся я, что старуха еще не вымелась. Пей — и на вот, заешь.
Ингус выпил, скривился, но закусывать не стал.
— Да-а, у меня тоже утром было, язви тя в душу, ну и похмелье! — ужаснулся Краузе. — Надо идти корову доить, ой, голова как котел. Батрак я ей, что ли, думаю! Она в Риге как барыня, а я со скотиной вожжайся! Повертываюсь на другой бок и храплю во все носовые завертки. Да разве дадут покой? Как бы не так! Корова, ведьма, мычит, боров, старый кастрат, визжит как резаный… У самого тоже: сушит в горле и сушит, спасу нет. Провалялся часов до десяти, что ли. Но когда-то все ж надо подниматься. Похлебал кислого молока, накормил свинтуса, кое-как подоил эту чертову лягаву… Похмелиться бы, а дома ни живой души. Пробовал один — не лезет. До обеда прослонялся по дому, но все, понимаешь, из рук валится. В конце концов сую бутылку в карман и седлаю «ижика». Ну, думаю, — кого первого встречу… И тут вспомнил про тебя. Но по дороге того, малость засомневался — воскресенье все же, супружница, наверно, дома… И вдруг, мать честная, слышу — кто-то шурует в сарае! Не старуха же, думаю, и уж, само собой, не мадама. Наверняка Ингус, едрена феня, свой брат Ингус!
Ингус улыбнулся.
— Перст судьбы! — сказал он.
— И правда что перст судьбы! — согласился Краузе и налил по второй.
— У меня сердце так и екнуло, когда… Пей, Ингус! Такого первача нигде ты не найдешь, кроме как у старого жулика Альберта Краузе. Факт? Факт! Практика, милок, практика… Почти тридцать лет. Куда там, больше тридцати! Со времен фрицев. Сколько воды утекло с тех пор, Исусе Христе, сколько добрых друзей и дружков-приятелей, сколько подонков и гадов ногами вперед вынесли, сменялись правительства, дети выросли, а самогон остался, как говорится, навечно в строю.
И в подтверждение своих слов Краузе запел высоким тенором, какого никак нельзя было ожидать от этого уже седеющего и старчески обрюзгшего детины:
И хотя в песне речь шла о пиве, это не помешало им выпить еще по чарке гораздо более крепкого зелья, которое Краузе проглотил одним духом, бодро крякнув, а Ингус протолкнул с явным трудом, по-прежнему кривясь и гримасничая. Водка ему сегодня почему-то не лезла в горло, казалась до тошноты вонючей и горькой. И зачем он вообще сюда притащился — бросил все и снова припер в Гутманы, откуда только вчера поздно вечером уехал с дурной головой, не в себе, и ночью решил держаться отсюда как можно дальше? Привычка? Не мог обидеть Альберта? Дух противоречия? Хотел доказать Велдзе, что нельзя им вертеть и крутить как вздумается? Или же это потребность смыть… утопить в вине то, что его гложет и душит?..
— Чего ты кислый такой? — заметил его состояние Краузе. — Зубы болят или у тебя месячные?
Ингус махнул рукой.
— Или благоверная взяла в оборот за вчерашнее?
— Не то что взяла…
— Представляю себе — развела сырость! На это они все мастерицы. Хлебом не корми — дай поплакать. Для них слезы все равно что для нас винцо.
Ингус молчал.
— А ты — ноль внимания! Если бы я слушал все, что талдычит мне моя Ильза, я бы давно был на том свете или в дурдоме, факт! С бабами самое лучшее так: ты им не перечь, а втихую делай по-своему.
— Всего втихую не сделаешь, точно!
— Ну а с треском — какие горы ты своротить хочешь?
— Я сам не знаю! — сквозь стиснутые зубы выдавил из себя Ингус и сжал рюмку так, что пластмасса в ладони лопнула и самогон вытек сквозь пальцы. — Иногда мне казалось, что надо идти снова в мелиораторы. Что стоит мне туда вернуться — и сразу все станет на свое место. Помнишь, как мы вместе вкалывали, как… Да что я тебе толковать буду, ты и сам все знаешь… А потом взяло меня сомнение — в том ли дело, может, мне это просто втемяшилось? Тянет меня вон из Лиготне, а куда — сам не знаю. Кажется, будто я в дерьме весь, барахтаюсь, как в навозной жиже… и еле держусь на поверхности… И тогда я себя спрашиваю: чего мне не хватает? У меня есть все: жена, ребенок, дом, машина… Притом же я не убогий какой-нибудь, не калека. А кружусь как пес и ловлю собственный хвост. Как оно есть — не по мне, а чего я хочу — не знаю.
В то время как Ингус говорил, Краузе встал, нашел взамен раздавленной стопки другую и налил.
— На вот трахни, и речку высветлит — вся муть осядет.
— Не высветлит, — упрямо сказал Ингус, но рюмку опрокинул.
— Знаешь, Ингус, как у нас в лагере про таких, как ты, говорили?
— Ну?
— С жиру бесится.
— Ничего ты не понимаешь, Альберт!
— Мало у тебя горя — вот где закавыка! А свободного времени и денег слишком много. Посадить бы тебя, хе-хе, годика на два, чтобы ты, милок, на вкус распробовал, что есть свобода. И какое это счастье — полное брюхо и рядом в постели баба.
— Что ты мне женой и набитым брюхом в нос тычешь! Ты и сам к этому привык не хуже меня. Как будто десять лет в кутузке не ты — кто-то другой отсидел, точно. Накормленный-напоенный, ты каждый вечер ложишься под бок к своей Ильзе и не звонишь на всю округу, что это какое-то особое счастье, потому что трепать языком ты здоров, но пока еще не совсем заврался… Залезешь в логово и дрыхнешь как боров до утра, свято веря, что свою вину ты искупил…