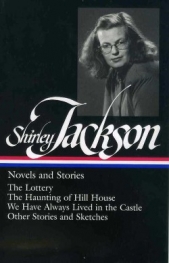Ивушка неплакучая

Ивушка неплакучая читать книгу онлайн
Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева "Ивушка Неплакучая", удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну, все сказанное выше — это сказано лишь к слову. Для Максима же в конце концов надо было сообщить жене о полученной им и схороненной в почтальонской сумке страшной бумаге. Он, как известно, и прежде страдал, сильно маялся душой, когда нес ее, черную, в чужой дом. Теперь же его муки оказались во сто крат большими, день ото дня сумка его становилась все тяжелей, давила будто не на плечи, а на сердце, и в какой-то час сделалась совсем неподъемной. Подходящего, однако, случая, который мог бы немного ослабить удар, — Максим понимал, что рано или поздно, но вынужден будет обрушить его на жену, — такого случая что-то не оказывалось. И вот однажды, черный весь, похожий на большую головешку со свежего пожара, с провалившимися глазами и щеками, пришел к обеду домой, присел к столу, на котором дымилось большое блюдо со щами, зачерпнул деревянной ложкой тех щей, понес ко рту, на полпути раздумал, выплеснул хлебово обратно, после чего ложка сама выскользнула из его ослабевших, задрожавших безвольно пальцев, — тяжело поднялся, ватными ногами сделал несколько шагов к стене, где только что повесил сумку, снял ее и, пряча налившиеся влагою глаза от жены, заговорил: «Мать, слышь-ка… Ты только…» Не дала договорить, закричала жутким голосом. Крик ее выметнулся на улицу, вихрем подхватил каких-то баб, кинул их на Максимово подворье…
— Да, мои Ванюшка и Петяшка лежат теперя гдей-то на чужой сторонке, — вздохнул Паклёников, — и могилку их не проведать, да сохранилась ли она, та могилка? Сам воевал в первую германскую, знаю, как хоронят нашего брата на позициях — где упал, там и прикопают, попробуй потом найти… А Елена до сих пор житья не дает, пиши, говорит, самому Сталину, чтобы пропуск дали в Венгрию. Грозится пешком пойти в энтот Шехер… мехер… Язык, говорит, до Киева доведет. Пробовал образумить старую. Куда ты собралась, Елена?! Ты ить дале нашего районного поселку отродясь не ездила, а тут — заграница! Язык у тебя, говорю, в полной исправности, это правда, а в ногах-то нету прежней резвости. Вон в Салтыкове, за три версты, к своей се-стре дойтить не могешь, куда ж тебе… — Максим опять тяжко, с прихлипом, вздохнул. — Ведь я, Сережа, чуть отходил ее тогда. Цельну неделю пролежала ни жива ни мертва, кормил ее с чайной ложечки, хлебушка в соску нажевывал, как малому дитю, чтобы как-то удержать ее на белом свете, — без нее, Елены моей, признаюсь тебе, Серега, и мне бы не жить, не топтать травы-муравы на наших завидовских тропках. Слава богу, выходил, вернулась баба к жизни, спасибо Степаниде Лукьяновне, целыми ночами просиживала возле моей старухи добровольной сиделкой… Поднялась Елена, все бы ничего, а вот на ноги совсем слабой стала…
Максим рассказывал, а слушавший его Сергей Ветлу-гин искал и не мог пока найти ответа на вопрос, вдруг вставший перед ним. Он помнил, что до войны Максим Паклёников слыл в Завидове выпивохой и по этой причине не занимал в отличие от большинства завидовских мужиков даже самой малой руководящей должности в колхозе. В то время никому бы и в голову не пришло, чтобы доверить такому человеку денежные дела, а теперь вот доверили. Что же случилось с Паклёниковым? Может, остепенился? Может, война не только убивает и калечит, но и кого-то исцеляет? Что-то мало похожа ода на исцелителя…
Заглянув глубоко, как, бывало, заглядывал в деревенский колодец, в совершенно трезвые, родниковой чистоты, ясно мерцающие из-под наволочи густых, сомкнувшихся над переносьем бровей глаза старика, спросил напрямик:
— А водочку-то пьете, дядя Максим?
— А куды от нее денешься, — быстро и спокойно сказал Паклёников.
— И что же, много ты ее…
— Вижу, Серега, ты про прежние годы вспомнил, когда мы с твоим отцом… Теперя не то. Годы бегут, а с ними и силенки убывают. Спрашиваю днями Николая Ер-милыча, дядю Колю то есть, спрашиваю, значит: «Тебе, Ермилыч, когда бывает тижелыне — в гору аль под гору?» А он мне: «Знаешь, Максим, теперь все едино — что в гору, что под гору: так тижало и так тижало». — «Ну, — говорю, — в войну-то ты вроде прямее был». А он мне: «Война ково хошь выпрямит. А сейчас с какой стати мне выгипаться — старик должен быть стариком. Годы, они что тебе пудовые гири, любого к земле прижмут. И ты, Максим, растешь в обратную сторону…» Ермилыч прав: тут, Сережа, не до жиру, быть бы…
Да и должности мои не дозволяют: все время при финансах. Пропустишь иной раз лампадку — не без того, принесешь в какой дом радость в конверте, в ответ тебе стакан самогону — попробуй откажись, обидишь хороших людей до смерти… А так — ни-ни, ни боже мой! — Максим вдруг замолчал на минуту, глянул на Ветлуги-на, спохватился: — Я, кажись, совсем заговорил тебя, Сережа, ты уж прости старого брехуна — ни речи, ни мочи уж не могу удержать, такие теперь мои лета. А ты так и не попал на заседание. Кончилось, видать. Слышь, все поднялись? Сейчас выходить начнут… Ты бы, сынок, заглянул к нам на часик. Я еще не накалякался.
Мы ить с твоим отцом, бывало…
7
За председателевой дверью зашумели, задвигали стульями и скамейками, заговорили почти все разом, не успев разрядиться до конца во время заседания. Сперва Сергей отчетливо различил характерный, постоянно сдерживаемый, как бы виноватый кашелек Знобина, затем послышался давно знакомый густой бас Леонтия Сидоровича Угрюмова, вокруг которого закручивались повиликой женские, требующие чего-то голоса, натыкаясь по пути — и оттого еще более воспламеняясь — на беззаботный Тишкин хохоток, и совсем умолкали, когда наперерез им подымался старческий, с присвистом на конце фразы баритон дяди Коли, и вновь протестующе звенели, когда высовывался со своими замечаниями Санька Шпич, по несчастью для себя обладающий тем редким голосом, когда один его звук сообщает собеседнику мгновенное и острое желание возражать, перечить, протестовать, не соглашаться ни с чем из того, что бы тот ни говорил, отвергать, оспаривать даже очевидно бесспорные, вполне логичные его доводы. Беда владельца такого голоса состоит в том, что сам он не в силах понять, почему с ним не соглашаются, когда он говорит безусловно разумные вещи, и, горячась, пытается подойти к своим мыслям с иного конца в надежде примирить с ними спорщика, но вызывает лишь еще большую ярость последнего, который, не выдержав, закончит тем, что попросит почти с мольбою: «Да замолчи ты, ради бога, не то ударю!» И Санька Шпич, ежели речь идет о нем, остановится на полуслове в крайнем недоумении, беспомощно мигая своими длинными, как у теленка, белесыми ресницами. Сейчас он, судя по всему, и пребывал как раз в таком положении, потому что, выйдя в коридор вслед за Апрелем, явно удиравшим от него, хватал старика за пиджак, старался таким образом задержать и все-таки убедить. Сопротивляясь, Апрель встряхивался весь, точь-в-точь как встряхивается всей кожей лошадь, когда ее одолевают слепни, и, свирепо вращая окровепившимпся белками своих вообще-то добрых глаз, шипел сквозь редкие зубы:
— Сань, милай, отвяжись!
— А вот и не отвяжусь! — кричал Шпич. — Ты, Артем Платонович, должен в конце концов понять, что сейчас нам не до твоей картошки, хлеб, еще на поле, кто же тебе даст быков. Картошке в земле ничего не сделается. Полежит еще с месяц, а хлеб…
— А картошка, по-вашему, не хлеб?! — злился Апрель и опять настойчиво просил своего преследователя: — Отстань от меня, нет моей моченьки слушать тебя!
— Я замолчу, но прежде хотел бы услышать от тебя: прав я или нет?
— Умру, а не соглашусь с тобой, Санька!
— Это почему же?
— А черт ее душу знает, — чистосердечно признался Апрель, впервые натолкнувшись на такой вопрос, но, подумав, попытался объяснить: — Как те сказать, Саня… Вот когда ты помалкиваешь, ты мне больше по душе. А как только отверзнешь уста, заговоришь, у меня мороз по коже, точно кто серпом по энтому месту… Да ты не серчай, я ить правду говорю, другой тебе ее не скажет, потому как ты, Саня, большая шишка на селе. Слушал я тебя. сейчас на правлении, а самого так и подмывало подойтить и заткнуть тебе рот. Так что отстань, ради господа бога, от меня со своими речами. Сыт я ими по горло!